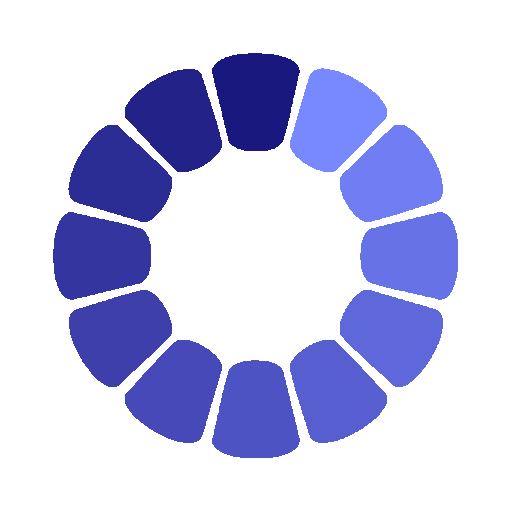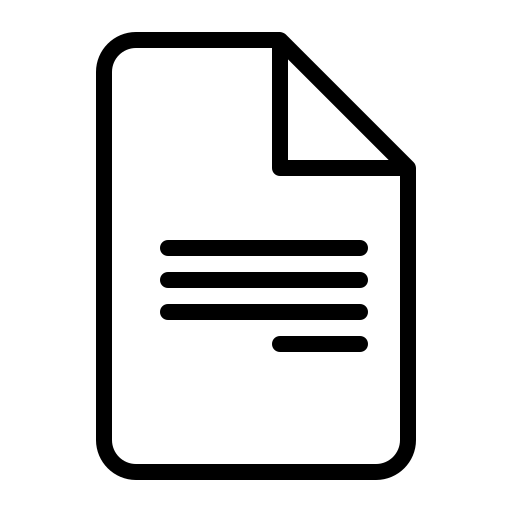РЕАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА Исполнитель

- Скачано: 27
- Размер: 393 Kb
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени БЕРДАХА
КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Пособие
по дисциплине специализации
«ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗМА
(на материале творчества А.П.ЧЕХОВА)»
СОСТАВИТЕЛЬ: МАКСЕТОВА Ж.К.
НУКУС – 2006
Максетова Ж.К.
|
1 |
Ресурс ID раками |
|
|
2 |
Ресурс езилган тили |
Рус тилида |
|
3 |
Ресурс номи |
«Творчество А.П.Чехова и проблемы реализма» (для студентов 3 курса) |
|
4 |
Муалиф(Лар) |
Максетова Ж.К.
|
|
5 |
Ресурс тури* |
Пособие |
|
6 |
Муассаса номи |
Бердах номидаги КДУ |
|
7 |
Чикарилган йили |
2006 йил |
|
8 |
Нашриет |
2,5 п.л. |
|
9 |
Сахифа(бет)Лар сони |
40 с. |
|
10 |
Илм сохаси/йуналиши |
Русская филология |
|
11 |
Аннотация |
Пособие по спецкурсу «Проблемы реализма» составлено в соответствии с типовой программой КГУ. (шифр 5220100 (Славянская) русская филология «Бакалавр» для студентов 3 курса). Проблемы реализма рассматриваются на материале творчества А.П.Чехова. |
|
12 |
Ресурсга (гипер мурожат) |
«Творчество А.П.Чехова и проблемы реализма» (для студентов 3 курса) |
|
13 |
Рецензентлар исми, фамилияси |
|
|
14 |
УДК раками |
|
|
15 |
ISBN раками |
|
{spoiler=Подробнее}
РЕАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА
Введение.
Чехов сказал однажды: «Все мною написанное забудется через 5—10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы».[1] Первая фраза – отчасти дань скромности, отчасти шутка, вторая — полна глубокого и важного смысла. Чехов считал себя пролагателем новых путей и в этом видел свое писательское назначение. Какие же это были пути? В конце 80-х годов, когда творческий метод Чехова уже вполне определился, он заметил в письме к Плещееву: «Цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем» (П Ш, 186). Можно ли, однако, показать уклонение от нормы, не зная, что такое норма? Чехов считал это возможным. Норма жизни и человеческих отношений, думал он, не всегда может быть прямо выражена и декларирована, но подлинный художник всегда чувствует и ощущает ее, видит отклонения от нее, показывает их и таким образом как бы конструирует норму от обратного.
Отклонением от нормы он начинает считать не только вопиющие факты социального зла, прямое бесчестие или прямую ложь в отношениях между людьми. Отклонение от нормы может быть микроскопично, почти неощутимо, совершенно буднично — и тем не менее оно должно быть отмечено показано именно как отклонение от нормы, как ее нарушение. Вопиющие факты социального зла и неправды, резкие, определенные, бросающиеся в глаза, — это не единственный и даже не главный показатель ненормальности жизни, это только частный случай, такой же, как тысячи других, менее заметных, труднее ощутимых. Художник на то и художник, чтобы видеть то, чего не дано видеть рядовому наблюдателю.
Однажды, рассуждая о требованиях воспитанности, Чехов заметил, что настоящие люди «болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом» (П I, 223). Это требование чеховской этики становится также коренным принципом его эстетики. В 1889 году, откликаясь в частном письме на одно из мелких будничных проявлений житейской непорядочности в отношениях между литераторами, Чехов сказал: «Все это мелочи, пустяки, ко, не будь этих мелочей, вся человеческая жизнь всплошную состояла бы из радостей, а теперь она наполовину противна» (П III, 266). А в «Лешем» (1889) мы находим такое воплощение этой же мысли: «. . .мир погибает не от разбойников в не от воров, а от скрытой ненависти, от вражды между хорошими людьми, от всех этих мелких дрязг, которых не видят люди. . .» Не «воры» и не «разбойники», то есть не явное, грубое я резкое нарушение нормального жизненного уклада — не это все составляет главное зло жизни, а «мелкие дрязги», «пустяки» и «мелочи», то есть нечто такое, что пронизало жизнь сверху донизу, сделало ее скучной, непорядочной и неизящной, отравило источник самых простых человеческих радостей.
Место кричащей несправедливости заступил обычный "порядок вещей в мире, который давно сложился и не скоро кончится. Ненормально такое положение, при котором вольным человеком оказывается конокрад, а люди, не выходящие за пределы ординара, ведут жизнь серую, однообразную, презренную и тошную («Воры», 1890). Ненормальной оказывается сама норма жизненных отношений, а не ее нарушение — вот о чем говорит Чехов в этом рассказе, как и со многих других, Ненормально Нормальное — эта тема просвечивает во всем творчестве Чехова.
Страшно нестрашное — таково другое выражение той же чеховской темы, той же основной его мысли. Страшны не жизненные трагедии, а житейские идиллии. Страшны не внезапные резкие перемены и перевороты в человеческой судьбе — страшна, напротив, жизнь, которая совсем не меняется, в которой ничего не происходит, в которой человек всегда равен себе.
Нереально реальное — таково третье (наиболее общее) выражение все той же единой чеховской темы. Сложившаяся жизненная норма, уклоняющаяся от той идеальной нормы, которая существует в сознании писателя, хотя и не может быть определена позитивно, теряет в глазах Чехова реальные очертания и приобретает оттенок призрачности, фантастичности, алогизма. На этом принципе нереальности, алогизма построен, например, рассказ «Случай из практики» (1898).
«Недоразумение», «ошибка», «логическая несообразность», доходящие до фантастики («дьявол», «неведомая сила»),—вот что раскрывается Чехову в обыденной жизни, если к ней подходить как к «путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения».
Применяя свой принцип «нереальности реального», Чехов делает обыденную жизнь настолько «ненастоящей», настолько невозможной, что вольно или невольно пронизывает свои описания ощущением непосредственной близости жизни иной, настоящей, разумной, раскрывающей людям ясно видимую связь всех явлений. «Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава» («Три сестры». 1900). Жизнь могла бы наполниться смыслом (когда знаешь, «для чего живешь»), если бы не все эти «мелочи» к «пустяки», которые не могут же быть вечны, раз они ни больше, чем «ошибки», «недоразумения» и «несообразности», но которые страшны своей неизменностью и прочностью.
У Короленко есть несколько строк, как будто дающих реальный образ этому чеховскому ощущению. «.. .Нужно только еще что-то, не очень многое и не трудное. Стоило бы вовремя сказать какое-то слово, сделать какое-то движение…И стало бы и светло, и ярко, и радостно, и правдиво и значительно. Все было бы спокойствием и счастьем… Но это что-то не сказано, не сделано, не написано в свое время», «. . .лишь какая-то тоненькая перегородка отделяет этот мир, заслуживающий только пренебрежения, от другого, яркого и сверкающего, и действительно прекрасного, и исполняющего свои обещания».[2]
Именно об этой тоненькой, но страшно прочной перегородке нередко с отчаянием думают чеховские герои.
Ощущение близости иной жизни не всегда выражено у Чехова прямыми словами, но оно всегда присутствует в его произведениях как скрытый фон, как отсвет авторской «нормы», как «подводное течение», по выражению Станиславского.
Мы видели, что, применяя свой художественный принцип, Чехов переворачивает наши обычные представления о страшном и нестрашном, о нормальном и ненормальном, о трагедии и идиллии и т. д. Точно так же и наши обычные представления о пессимизме и оптимизме Чехов меняет настолько, что эти понятия в их противопоставленности становятся неприложимы к его творчеству. В самом деле, чем более противоестественной и нереальной предстает перед нами жизнь в его изображении, тем явственнее начинает пробиваться сквозь ткань его рассказов «подводное течение»; чем мрачнее становится его взгляд на жизнь, тем ярче его оптимистические надежды и предчувствия. Поэтому, как будет показано дальше, в самых мрачных рассказах Чехова мы встречаем законченные формулы его оптимизма.
В статьях о Чехове М. Горький с большой полнотой и убедительностью определил, а чем заключалась новизна тех путей, которые проложил Чехов. «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни», — писал Горький.[3] И в самом деле, в чеховском суде над жизнью анализ «мелочей», анализ «арифметический» имел решающее значение. Благодаря именно этому методу анализа Чехов мог преследовать социальное зло не только в резких его формах, но и в незаметных мельчайших проявлениях, в самых затаенных уголках. Благодаря этому методу каждый единичный будничный факт становился под его пером необходимым и достаточным материалом для суждения о мировом целом.
Горький не утверждает, что Чехов ввел этот принцип в литературу, он говорит лишь о том, что Чехов довел этот принцип до высшей ясности и тонкости. В самом деле, художественное умозаключение от простейшего к сложному — это метод всего реалистического искусства. На базе этого метода описание нескольких недель из жизни одного молодого человека на каникулах становится повествованием о поворотном моменте в политической жизни страны («Отцы и дети» Тургенева). Тургенев берет в своем романе единичный факт из области общественно-идеологической жизни человека и возводит его к политической жизни целой страны. Чехов поступает подобным же образом, но только он усложняет и уточняет этот принцип: он берет мельчайший, микроскопический факт из сферы быта и возводит его ко всему строю человеческих отношений.
Точно так же не Чехов ввел в литературу и тему «трагизма мелочей». До него в России писали об этом Гоголь и Щедрин. Что касается Щедрина, то именно он одновременно с Чеховым и независимо от него сказал чеховские слова: «В основе современной жизни лежит исключительно мелочь». Но для Щедрина, в отличие от Чехова, «мелочь» — это будничное проявление социального зла именно в его вопиющих формах, это такая совокупность фактов и обстоятельств, при которых «испуг и недоумение нависают над всей Европой» и которые заставляют автора восклицать: «Почему допускается вопиющая несправедливость к выгоде сильному и в ущерб слабому?»[4]
Для Гоголя «мелочь» — это «пошлость пошлого человека», это низкая сфера жизни, свойственная низкому, маленькому человеку; гоголевская «мелочь» — это окружение мелкого человека и его порождение. Не то у Чехова: чеховская «мелочь» — это нечто от человека не зависящее и для него принудительное; это не частная сфера, а всеобщая среда, в которую насильственно вдвинут человек и большой и маленький, и умный и глупый, и добрый и злой, человек вообще, каков бы он ни был по своему социальному положению, характеру, интеллектуальным достоинствам и моральным качествам. Чеховская «мелочь» — это всеобщая принудительная среда для всеобщего человека.
«Он не говорит нового, — писал о Чехове Горький, — но то, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо и верно»[5]. «Он не говорит нового» — это значит, по смыслу статьи Горького, что чеховские темы и сюжеты обыденны и просты, его общие заключения о жизни, в конце концов, те же, что и у других мастеров русского реализма, но только степень доказательности этих общих выводов иная, более высокая и неопровержимая («до ужаса просто и ясно, неопровержимо и верно»). Он говорит то же самое, что его предшественники и современники (жизнь плохо устроена!), но он применяет другой метод художественной аргументации; как естествоиспытатель по одной кости восстанавливает целый скелет животного, так Чехов по каждой мельчайшей шероховатости быта может сделать заключение о целом строе социальных отношений, может нарисовать картину «наполовину испорченной» жизни.
«Он не говорит нового» еще и в том смысле, что свою работу восстановления общей картины жизни по одной ее мельчайшей детали он повторяет и заново проделывает в каждом своем рассказе. Рассказы Чехова поэтому не вытекают один из другого, а как бы дополняют друг друга, друг на друга нанизываются. Чехов поступает так же, как героиня его драмы «Иванов» Саша Лебедева, которая говорила все время одно и то же: «Ах, господа! Все вы не то, не то, не то! . . На вас глядя, мухи мрут и лампы начинают коптеть. Не то, не то!.. Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что все вы не то, не то, не то...»
«И потом, речь его, — продолжает Горький, — облечена в удивительно красивую и тоже до наивности простую форму, и эта форма еще усиливает значение речи». Это сказано по поводу рассказа Чехова «В овраге». Действительно, в этом рассказе, как, впрочем, и во многих других, речь Чехова проста до наивности, причем секрет этой «наивности» чеховской речи заключен в необыкновенном спокойствии и ровности повествовательного тона автора. Говоря одинаковым тоном о больших и малых вещах, Чехов не делал различия между крупными и мелкими явлениями, между значительными и незначительными событиями и в своей смелой «наивности» реформатора разрушал привычное соотношение тем, сюжетов и авторских акцентов. Это было уже давно замечено читателями и критиками, но далеко не сразу было понято, что возникла новая художественная система, новая поэтика бесконечно малых величин и «подводного течения». Россия приближалась к периоду исторических бурь. Литература наполнилась ощущением, что «больше так жить невозможно» и что «главное — перевернуть жизнь», что «готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка». Для того чтобы выразить это предчувствие, понадобились новые слова и новые пути. Реализм перестраивался, сбрасывал с себя старую оболочку и вырабатывал новую форму. Совершался процесс обновления русского реализма.
Реализм ранних рассказов Чехова.
Чехов дебютировал рассказами и сценками в мелких юмористических журналах и не сразу выделился на общем фоне. Ранние произведения его далеко не однородны по своему художественному достоинству. Наряду с превосходными комическими рассказами встречаются сценки и очерки, ничем не выделяющиеся среди тех, что помещались на страницах «Осколков», «Будильника» и «Стрекозы», попадаются неостроумные каламбуры и разного рода «мелочишки», написанные исключительно ради заработка, в погоне за печатными строчками. Однако при всей разнородности и неравноценности ранних опытов Чехова в них явственно проступают черты, придающие своеобразие облику Антоши Чехонте.
Общий склад современной жизни в ранних юмористических рассказах Чехова предстает как нечто дикое, дремучее, а хозяева этой жизни и люди, ею воспитанные (помещики, купцы, чиновники, мещане), оказываются похожими на животных. Уже в первом рассказе «Письмо к ученому соседу» (1880) выведен дикий помещик, взгляды и понятия которого представляют смесь грубого искательства и простодушной наглости. В рассказе того же года «За двумя зайцами погонишься» все действующие лица — майор Щелколобов, майорша, писарь Иван Павлович— не люди, а какие-то человекоподобные существа. Их переживания — это не человеческие страсти, а нечто совершенно первобытное, вызывающее чувство презрительного удивления.
Во многих рассказах Чехова сравнение героев с животными ложится в основу характеристики персонажа. Так, в рассказе «Папаша» (1880) сам папаша — «толстый и круглый, как жук», мамаша — «тонкая, как голландская сельдь»; это все люди без морали, без человеческих понятий, находящиеся вне норм человеческой жизни, только условно именуемые людьми. Об этом прямо сказано в рассказе «За яблочки» (1880): «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не : Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров».
Сценка 1881 года «В вагоне» разработана Чеховым почти как зоологический этюд. Кондукторы, контролеры, «зайцы», старый селадон, хорошенькая барыня из породы «само собой разумеется» —это именно породы человекоподобных зверей, живущих и действующих в соответствующей обстановке: кругом тьма, храп, сопенье, пыхтенье, чавканье. «Жиндаррр!!! Жиндаррр!!!— кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры...»
Самая большая известность среди этих человекоподобных животных Чехова выпала на долю хамелеона. Он стал символом эпохи, отмеченной теми чертами двоедушия, лганья, предательства, пустомыслия, произвола, которые Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» объявил «неизменным предметом» своей литературной деятельности. В рассказе «Хамелеон» (1884) Чехов создал обобщение щедринской силы. Мгновенные переходы от угодничества к самоуправству, от самодурства к холопству — эти черты полицейского надзирателя Очумелова воспринимались не только как характеристика российской полицейщины, но получали гораздо более широкий смысл. Ведь черты хамелеонства есть и у пострадавшего Хрюкина, не возбуждающего никакого сочувствия, и у дьячка из «Хирургии» с его истинно хамелеонскими переливами чувств, и у самого «хирурга» — земского фельдшера Курятина, исполненного гордости знакомством с сильными мира сего и презрением к злосчастному пациенту и ему подобным («Ничто тебе, не околеешь!»). В более раннем очерке «Двое в одном» (1883) чиновник говорит о свободе, о правах личности, но, увидев своего начальника, сразу становится ничтожен и жалок, гордые претензии мгновенно исчезают. «Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!» — думает начальник. Хамелеоном может быть и полицейский, и маленький чиновник, и «человек, который работающий», и интеллигенты, как в рассказе «Маска», и кто угодно. Язва хамелеонства разъедает не отдельных людей и даже не отдельные сословия, а все общество.
Рядом с хамелеонами разных мастей становятся Пришибеевы, пришибленные и пришибающие блюстители порядка, добровольные соглядатаи и охранители основ. Безусловная вера в незыблемость этих основ свойственна всем — и сильным, богатым, властвующим и слабым, униженным, оскорбленным. Люди видят в себе не людей, а чины и состояния; на этом держится современный порядок жизни. Пристав — это пристав, чиновник — это чиновник, доктор — это доктор, репортер — репортер и ничто кроме этого. Герои юмористических рассказов Чехова часто представляют собою персонифицированные профессии. В маленькой трилогии «Роман доктора», «Роман репортера», «Роман адвоката» о героях неизвестно ничего, кроме их профессии, у них нет даже имен: подойдет любое. Если известна профессия или общественное положение человека, то известно, как поведет себя каждый из них в определенных обстоятельствах. Это смешно, и в юмористических произведениях Чехова никаких других чувств не возбуждает. В рассказе «Смерть чиновника» (1883) умирает маленький чиновник, привыкший унижаться и трепетать, это потомок гоголевского Акакия Акакиевича, но Чехов относится к его личности, к его жизни и смерти совсем не так, как Гоголь: Чехов смеется. Между тем смеяться над одним из «малых сих» и тем более смеяться над смертью — это нечто как будто невозможное, даже кощунственное, но в художественном мире Чехова в этом нет никакой профанации: умирает не человек, а чиновник, то есть некое искажение человека.
«Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода...» (П III, 11), — говорил Чехов, и все, что не отвечало этому идеалу, было для него ниже жизни, какой она могла и должна была бы быть. Это в творчестве молодого Чехова — особый, низменный мир, где одинаково смешны и верхи, и низы, и сильные, и слабые, и наглые самодуры, и жалкие «тряпки», «размазни». Эти люди противостоят друг другу в жизни, в творчестве Чехова они приравнены. Они одинаково забавны и одинаково ничтожны, одинаково пошлы и одинаково глупы, по мелкости своей они не заслуживают даже обличения, с них довольно и смеха.
Гражданские мотивы чеховского юмора не были оценены и поняты сразу, его отрицание казалось иной раз беспредметным, а его юмор — самодовлеющим, ни на что в особенности не направленным и потому безобидным. Эту версию поддерживали иной раз и демократически настроенные критики, в глазах которых Чехов проигрывал прежде всего по сравнению с Салтыковым-Щедриным, приучившим читателей к «свирепому юмору», подчиненному определенной социально-политической программе. У Чехова такой программы не было. Он был силен непосредственностью, максимализмом требований, ярким гуманизмом, в основе которого лежало представление о совершенном человеке с его умом, талантом, вдохновением и свободой.
Чехов, разумеется, отличался от Щедрина, но многое у Щедрина было ему близко и родственно. Чехову была близка щедринская тема премудрых пескарей и благонамеренных зайцев; самый жанр юмористической сказки, расцветавший под пером Щедрина одновременно с чеховскими рассказами, открывал широкие возможности для юмористических обобщений, к которым стремился молодой Чехов. Неудивительно, что Чехов учитывал опыт щедринской сатиры, восхищался Щедриным и нередко подражал ему. В щедринском духе выдержана сценка 1884 года «Молодой человек», передающая разговор сотрудника юмористических журналов Упрямова с благонамеренным Правдолюбовым. Правдолюбов корит своего собеседника за легкомысленные рисунки.
«Правдолюбов. Кто это в мышеловке?
У п р я м о в. Это тайный советник Россицкий; на крючке казенное сало...
Правдолюбов (при слове «сало» облизывается). Тайный советник... (краснеет за человечество). Так молод и так испорчен...»
Не менее явственно слышатся щедринские интонации в сказке «Самообольщение» (1884), повествующей о том, как участковый пристав, кичившийся силой воли, был посрамлен стариком брандмейстером. Тот указал гордецу приставу на свободно лежащую в шкатулке лавочника десятирублевку.
«Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.
— Да! — сказал он. — Теперь понимаю! И с тех пор он уже никогда не кичился своей силой».
В 1885 году появляется у Чехова сценка «Свистуны», герои которой помещики, восхищающиеся по-славянофильски народом, несомненно ведут свою родословную от щедринских пустоплясов. Показывая на пастуха Фильку, один из свистунов крепостнической школы восклицает совсем в духе щедринских персонажей: «Взять хоть этого дурня... В плечах — косая сажень! Грудища —словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит... Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!» В фельетоне того же года «Мнения по поводу шляпной катастрофы» в числе прочих суждений по мелкому, злободневно-бытовому поводу приводится и суждение щедринского Иудушки.
В 1886 году в письме к Лейкину Чехов восхищается сказкой Щедрина «Праздный разговор». «Прочтите в субботнем (15-го февраля) № «Русских ведомостей»,— писал он, — сказку Щедрина. Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм!» (П I, 198). Характерно, что именно эта сказка привлекла особенное внимание Чехова: в ней речь идет о совершенной ненужности губернатора и прочих чиновников, высших и низших, для нормальной жизни обывателя. Воздействию сказок Щедрина следует приписать появление у Чехова и таких шуточных сказок и басен в прозе с гротескными ситуациями, гиперболическими фигурами, животными персонажами, как «Два газетчика» (неправдоподобный рассказ)», «Бумажник (басня в прозе)» или «Рыбье дело (густой трактат по жидкому вопросу)». Некоторые образы и ситуации этого «трактата» прямо восходят к щедринским сказкам. Например, щука, «когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки», говорит: «Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься»; карась «сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука», приговаривая при этом: «Денно и нощно должны мы быть готовы, чтобы угодить госпоже щуке... Без ихних благодеяниев...». В особенности же характерен голавль, «рыбий интеллигент». Он состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука, впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькой необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, ин вздыхает и говорит: «Ничего не поделаешь, батенька!
Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?»
В ранней заметке Чехова «Обер-верхи» (1883). щедринских героев напоминает образ сотрудника «Киевлянина» который в припадке сомнения сделал у самого себя обыск и, не найдя ничего предосудительного все-таки сводил себя в квартал, чем и обнаружил «верх благонамеренности».
Во многих юмористических рассказах 80-х годов Чехов безжалостно разрушает разного рода мещанские иллюзии, снимая тонкий покров условного благообразия, прикрывающий безобразную сущность житейских отношений. Все скверно в современном мещанском строе жизни и все не то, чем кажется, — это лейтмотив длинного ряда его рассказов-шуток. В «Исповеди» (1883) все действующие лица безнадежно подлы: и сам герой, которого из человека «переделали в кассира», и его родители, и брат, и жена, н сослуживцы, и начальники, н знакомые. В «Единственном средстве» (1883),где опять Чехов откликается на модную тему воровства среди кассиров, все до одного оказываются ворами. В шутке «Случаи mania grandioza(1883) —все помешанные, кто на чем. В очерке «Темною ночыо» (1883) все одинаково преступно эгоистичны - от ямщика до инженера-путейца. В рассказе «На магнетическом сеансе» (1883) все одинаково подкупны. В сценке «Ушла» (1883)—все казнокрады и лицемеры; молодая женщина возмущается нечистыми доходами своих знакомых, но, узнав, что на этом же фундаменте построено и благополучие ее мужа, уходит от него... в другую комнату. В сказке «Верба» (1883) все чиновники, без исключения, бессовестны и бесчестны, даже убийца совестливее и честнее их. В знаменитой «Жалобной книге» (1884) все жалобщики расписываются в собственной наглости, тупости и глупости, каждый на свой манер. В рассказе «Кулачье гнездо» (1885) все продается, все отдается внаем: дачи, конюшни, саран, фамильные склепы.
Защищая свой сатирический метод, Чехов обрушивается против литературного приукрашивания действительности, против шаблонных образов благородных, возвышенных героев и героинь. Некоторые эпизоды из произведений литературных корифеев используются у него при этом в пародийном плане. Так, в «Загадочной натуре» (1883) молодой писатель Вольдемар с видом глубокого психолога задумывается над душевными «терзаниями» женщины, собирающейся перейти от одного богатого старика к другому. «Чудная!—лепечет писатель, целуя руку около браслета. —Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал».
В «Шведской спичке», пародируя уголовный роман, основанный на психологических тонкостях, он вновь, как бы невзначай, упоминает имя Достоевского. Ощутительный намек на «Преступление и наказание» появляется в финале «Драмы на охоте».
«— Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?
— Вы!!
Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад».
Для Чехова это прежде всего борьба с литературными иллюзиями о жизни и людях. Герой рассказа «Слова, слова и слова» (1883) говорит падшей женщине выспренние фразы; она потрясена и готова увидеть в нем благородного героя читанного ею романа, но пет, это иллюзии — он такой, как все, он не больше, чем «честный развратник».
Реальная действительность разбивает эти литературные романтические иллюзии. В рассказе «Из воспоминаний идеалиста» (1885) терпит крушение наивная, сентиментальная доверчивость глуповатого «идеалиста»: героиня его дачного романа оказывается одной из тех «хорошеньких, развратных гадин», которых так любил рисовать Чехов в пору своей борьбы с литературными и житейскими обманами. Добрая и возвышенно настроенная вдова предводителя «облагораживает» общество, насаждая трезвость: па традиционном поминальном обеде она не подает гостям горячительных напитков. Однако гости приносят свои бутылки и тайком напиваются. В трогательном письме к подруге предводительша описывает в идиллических тонах поминальный обед, объясняя в нем бурное поведение гостей их взволнованностью {«У предводительши», 1885). Это письмо, по содержанию и стилю,— образец литературных иллюзий о жизни.
Мелодраматические мотивы в раннем творчестве Чехова
По контрасту с миром пошлости, нелепости и хамелеонства у молодого Чехова возникают в разных формах образы совсем иной жизни, иных людей и отношений. Характерна в этом смысле повесть «Ненужная победа» (1882), написанная в духе романов известного венгерского писателя Мавра Йокая. Чехов даже слегка утрирует его романтическую манеру, как бы посмеиваясь над гиперболизацией чувств, характеров, сюжетных положений. И в то же время его увлекает яркость повествования, в котором действуют люди сильных страстей, где кипит борьба, где есть обиженные и обидчики, где благородство сталкивается с низостью и корыстью и одерживает победу над ними. Все это нисколько не похоже на презренную, серую обывательскую жизнь, которую Чехов рисовал в юмористических рассказах. Там была жизнь, установившаяся раз и навсегда, монотонная и неизменная. В «Ненужной победе» — необыкновенные приключения, резкие повороты судьбы, удивительные удачи / и сокрушительные поражения. Там перед читателем проходили жалкие чиновники, пьяные купцы, тупые полицейские, смешные дьячки. Здесь — графы, бароны, банкиры, странствующие музыканты, блистательные куртизанки,— шумный, сверкающий мир, в котором перед человеком открываются разные пути и невозможное становится возможным,— уличная певичка выходит замуж за барона, а ее муж через несколько часов после свадьбы лишается титула, вожделенная победа оказывается ненужной и многолетняя вражда заканчивается примирением. При всем том здесь нет идеализации социальных порядков, богатые и сильные безнаказанно оскорбляют ниже стоящих, попирают законы и совесть, но несправедливость иной раз встречает страстный отпор и порождает жажду справедливого возмездия. Симпатии автора па стороне страдающих, но гордых и внутренне свободных людей. Все это близко к мелодраме, поэтика которой была не чужда молодому Чехову. Мелодрама демократична и по своей широкой доступности и по своему духу: она поэтизирует борьбу, вселяет надежды и отрицает унылую будничность обывательской жизни и половинчатость чувства.
Мелодраматическая струя чувствуется и в рассказе Чехова «В рождественскую ночь» (1883), и в драматическом этюде «На большой дороге» (1885), И здесь, и там — апофеоз благородных чувств и сильных страстей. Героиня рассказа, молодая женщина, в непогоду, на берегу моря ждет своего мужа и думает, что он погиб, но, оказывается, он жив. Из ее груди вырывается отчаянный крик: в нем «и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец, рухнувшая надежда на свободное вдовство». Муж понимает все и вновь отправляется в море на верную гибель. Он слышит ее крик «воротись», хочет вернуться, но уже поздно. Женщина стоит на берегу до утра. «В ночь под Рождество она полюбила своего мужа...» В этом маленьком романе торжествует гордое самопожертвование без слез и фраз, и оно побеждает. Победа и здесь оказывается ненужной, но нравственная и эстетическая ценность высоких порывов души от этого нисколько не уменьшается.
Еще более сильно мелодраматическое начало в упомянутой одноактной пьесе. Здесь глухою ночью, опять в непогоду, в кабаке на большой дороге сходятся необычные люди: странник, верящий в то, что в мире были и есть «светлые люди», опустившийся помещик, которого в день свадьбы бросила жена, и главный герой пьесы бродяга и вор Мерик, человек злой и буйный, презирающий людей и мучающийся лютой тоской. Его жизнь также сломлена женским коварством; он обманут жизнью и готов мстить всем без разбора, но оказывается, что этот злой озорник и обидчик —один из тех «светлых людей», о которых говорил странник Савва. Суровая жизнь бродяги и отщепенца не убила в нем гуманного чувства. На вопрос, что он сделал с жестоко оскорбившей его женщиной,он отвечает: «Убил, думаешь? Руки коротки... Не то, что убьешь, но еще и пожалеешь... Живи ты и будь ты-.. счастлива! Не видали бы только тебя мои глаза, да забыть бы мне тебя, змея подколодная!» Жену помещика, которую непогода случайно забросила в этот же кабак, Мерик тщетно просит сказать хоть одно ласковое слово загубленному ею человеку и, потрясенный ее жестокостью, замахивается на нее топором; лишь случай спасает ее от гнева добровольного мстителя. Пьеса заканчивается возгласом благородного героя в рубище бродяги: «Тоска! Злая моя тоска! Пожалейте меня, люди православные!» В пьесе есть черты реальной жизни, картины социального дна, нарисованные яркими красками с натуралистическим оттенком. Образы и ситуации пьесы подчинены стремлению создать особый, условный мир, в котором господствует редкое, исключительное, необычное.
Для Чехова мелодрама была противоядием против того презренного мирка хамелеонов и Пришибеевых, над которым он беспощадно смеялся в своих юмористических рассказах. Этими же творческими стимулами были порождены прозаические и драматические произведения, посвященные простой жизни обыкновенных людей, с той, однако, особенностью, что из жизни этих людей были исключены низменные чувства и мелкие, пошлые побуждения. Создавался опять-таки условный мир, но не мелодраматический, а отчасти идиллический, отчасти водевильный, как, например, в «маленьком романе» Чехова «Веселая коса» (1882). Здесь перед нами совсем особая жизнь, в которой нет социальных контрастов, нет борьба, нет озлобления, где вес затруднения разрешаются легко и ко всеобщему удовольствию. Люди здесь милы и шаловливы, все любят друг друга. Веселая банда очаровательных шалопаев играючи устраивает счастье влюбленных, не причиняя никому серьезных огорчений, даже отвергнутому жениху. Серьезного вообще ничего нет в этой утопической стране легкого веселья и бездумного благополучия, где не существует ни горя, ни страданий, ни даже обычной житейской грубости. Горести заменены легкими огорчениями, страдания — быстро преходящими неурядицами, озлобление — безобидным, легко забывающимся неудовольствием. Между тем герои маленького романа действуют в знакомой среде, в привычной всем обстановке, только живут они по-иному, по каким-то другим законам, более добрым, более веселым.
Художественная логика чеховского водевиля.
Водевиль — это «народное произведение французов», по выражению Герцена, — тоже основан на вере в возможность человеческого благополучия, и зритель всегда ждет от водевиля счастливых поворотов событий, и в самом деле после трудностей, не слишком больших, забот, не слишком тяжелых, и ссор, не слишком серьезных, временно замутившаяся жизнь в водевиле становится еще более счастливой, чем до начала традиционной водевильной путаницы. В водевиле Чехова перед людьми раскрываются неограниченные возможности: мужчина может вызвать на дуэль женщину, безутешная вдовушка — мгновенно влюбиться в незнакомого мужчину, которого за минуту до этого смертельно ненавидела, а заядлый женоненавистник — столь же мгновенно перейти от презрения и гнева к страстному восхищению и любви и даже испытать все эти противоположные чувства в один и тот же миг. И все это будет вполне естественно, только естественность эта подчинена не порядкам той жизни, которой живет зритель, а закону иного, несуществующего жизненного уклада, в котором зло не имеет силы, а добро и радость одерживают победу, как в сказке. Таков «Медведь», таково же отчасти и «Предложение», где ссора для того и возникает, чтобы закончиться примирением, а взаимная несговорчивость жениха и невесты, казалось бы исключающая возможность свадьбы, все-таки свадьбой завершается. В водевиле естественно то, что неестественно в жизни, в этом его суть и природа. Поэтому не правы исследователи, усматривающие достоинство чеховских водевилей в их жизненном правдоподобии, его нет, есть другое — веселое и дерзкое раскрепощение от порядков и норм обыденного существования.
Даже если порядки эти нарушаются просто несусветной, как в «Юбилее», и то здесь действует водевильный закон отталкивания от обыденной будничности. В реальной жизни, разумеется, юбилей прошел бы так, как был задуман, и разработанный ритуал был бы разыгран как по нотам, но водевиль с присущей ему свободой не хочет подчиниться бытовому правдоподобию. Там же, где обычные законы жизни торжествуют, где пошлость, наглость и грубость попирают живого человека, как в «Свадьбе», там уже нет водевиля, там все строится на тех же художественных принципах, которым подчинены юмористические рассказы Чехова.
Родство детской и народной темы в творчестве А.П.Чехова
Иная жизнь с иными нормами и мерками, противостоящими обывательскому существованию, развертывается перед нами и в рассказах Чехова о детях. Это другая форма противостояния привычным и узаконенным представлениям и порядкам. Здесь может существовать особый, четырехугольный мир, в котором мама похожа па куклу, а кошка па папину шубу, где появляются загадочные существа вроде исчезающей тети, а папа—это не пошлый «папаша» из одноименного рассказа Чехова, а тоже загадочный человек («Гриша»). Освещая мир светом детского сознания, Чехов преображает его, делая милым, веселым, забавным и чистым. Однако роль детского сознания не только в этом. Иногда в детских рассказах Чехова привычный мир становится странным, непонятным, ненатуральным. Маленький герой рассказа «Кухарка женится» смотрит, как происходит сватовство, и ничего не понимает, на все совершающееся перед его глазами он глядит как существо с другой планеты, и люди начинают выглядеть как манекены, производящие непонятные действия, которые почему-то никого не удивляют. Удивляются только ребенок и автор, который иногда говорит одновременно за себя и за ребенка: «Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того, ни с сего, явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность!»
В этом удивлении, в этой высокой наивности заключена разрушительная сила. Человек удивленный стоит (или ставит себя) вне того порядка, который это удивление вызывает. Удивляются дети, мудрецы и отрицатели.
Любопытно, что среди людей, отделившихся от привычных жизненных норм, у Чехова оказываются и больные. В рассказе «Именины» (1888) воспроизводится самочувствие больного человека, самим физическим состоянием своим поставленного вне привычной и шаблонной жизненной колеи. При этом не нравственная сторона болезни интересует Чехова, — ему важно испробовать еще один способ, при помощи которого можно было бы изъять человека из привычной обывательской среды и заставить его взглянуть на окружающее извне, как бы со стороны. Оказывается, что взгляд больного человека приобретает особую зоркость и обостренную чуткость не только к крупной, но и к мелкой, даже мельчайшей фальши, лжи, непорядочности и уродливости в отношениях между людьми, в самом строе жизни, в бытовом ее укладе; даже ничтожные, почти незаметные шероховатости в мыслях, поступках, словах, в одежде — в чем угодно — задевают нервы больного человека и заставляют их реагировать на все эти шероховатости с остротой и резкостью, недоступной нормальному, здоровому человеку с неизбежно притупившейся чувствительностью.
Чехову-врачу необыкновенно важно также и то, что короткий период выздоровления от тяжкой болезни дает человеку возможность с огромной силой почувствовать ценность бытия и значительность самых простых радостей жизни. Так, поручик Климов в рассказе «Тиф» (1887), оправившись от болезни, испытывает «ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир... Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим».
Этот пронизывающий взгляд больного или выздоравливающего человека сливается с авторским взглядом, и перед читателем вырисовывается утверждаемая автором норма отношения к миру «естественного», «первого» человека, свободного от бытовых и социальных условностей и предрассудков.
Резко выделены у Чехова из обычной среды и люди из народа, вольные скитальцы, мечтатели, артистические натуры, появляющиеся во многих его рассказах 80-х годов («Он понял!», «Егерь», «Художество», «Свирель», «День за городом»). В литературе о Чехове отмечалась уже близость этих рассказов к «Запискам охотника» Тургенева. Характерно, однако, что у Чехова, в его «Записках охотника», совсем нет Хорей, его больше привлекают Калинычи и Касьяны с их природной, стихийной поэтичностью, мудростью и той особой «ученостью», которая добывается не из книг. «Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы». Эти патетические и умиленные слова сказаны в рассказе «День за городом», где одним из таких ученых и мудрых людей оказывается сапожник Терентий, бесприютный бродяга, любящий жизнь и малых детей, и сам ребенок в душе. Он воспитатель детей, их учитель, он бродит с ними по лугам и лесам, рассказывает про красоту мира, отвечает на их вопросы, «и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Ом знает все. Так, он знает названия всех полевых трав, животных и камней». Он умеет лечить людей и предсказывать погоду, он — хранитель народнопоэтических представлений о природе. Ему Чехов позволяет «все знать» и разрешает учить, потому что это знание не книжное, а его «педагогика» вдохновлена любовью. Он — подвижник любви. «И такую любовь не видит никто». Но дети чувствуют ее, Терентий и дети — единое целое, они вместе, и «они без конца бы ходили по белу свету».[6]
Очень важно здесь это нерасчленимое единство детскости, мудрости, подвижничества, любви к природе и презрения к оседлости. Если человека, подобного Терентию, поднять на высоты культуры и сделать его бродяжничество сознательным, то перед нами возникнет образ Пржевальского, каким его нарисовал Чехов в 1888 году в замечательном некрологе великого, путешественника. Он для Чехова человек «подвига, веры и ясно осознанной цели». Люди, ему подобные, доказывают возможность существования деятелей иного типа, чем «скептики, мистики, психопаты, иезуиты, философы, либералы и консерваторы». Смысл жизни таких людей, как Пржевальский, их «подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка», и это для Чехова лучшее доказательство их нужности для народа. «Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки... делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу». Важность жизненных целей «в глазах народа» для Чехова равнозначна их доступности «пониманию даже ребенка». Это подчеркивает родство детской и народной темы в творчестве Чехова.
Тема болезни, смерти, горя, духовного возрождения
В рассказе 1886 года «Тяжелые люди» (первая редакция) Чехов писал: «Бывают в жизни отдельных людей несчастья, например, смерть близкого, суд, тяжелая болезнь, которая резко, почти органически изменяет в человеке характер, привычки и даже мировоззрение». В этих словах заключена целая художественная программа, которую Чехов осуществлял последовательно на протяжении многих лет. Об этом писал он в «Горе», «Беде», «Лешем», «Дуэли», «Скрипке Ротшильда», «Убийстве» и других, менее значительных произведениях.
Смерть близкого, как толчок к пересмотру всей жизни, к переоценке ее — это тема рассказа «Горе». У токаря Григория Петрова, великолепного мастера и в то же время непутевого мужика, внезапно умирает жена, по пути в больницу, куда он ее везет. «Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить». Потребность «сообразить» приводит его к мысли о неправильно прожитой жизни, к стремлению изменить ее. Изменить жизнь ему не удастся, «токарю аминь», но мысль о переломе уже зародилась, и это само по себе имеет бесспорную нравственную ценность и свидетельствует о духовной одаренности человека, недаром он мастер, натура артистическая. В процессе возрождения души правда и красота часто идут у Чехова рядом.
К основным темам и мотивам «Горя» Чехов вернулся несколько лет спустя в «Скрипке Ротшильда». Под влиянием внезапно обрушившегося горя, смерти жены, и собственной тяжелой болезни другой мастеровой человек, столяр Бронза, опять-таки незаурядный и артистически одаренный, подводит итоги своей жизни, но он идет дальше своего предшественника из рассказа «Горе». Переоценка личной жизни сопровождается у него ощущением общей неправды, тяготеющей над людьми. В результате мучительных раздумий он приходит в недоумение перед сложившимся порядком «пропащей, убыточной жизни» и задает вопросы необыкновенно наивные и в то же время поразительно глубокие: «Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно?»; «Зачем вообще люди мешают жить друг другу?», «.. .зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?». Ответов на эти вопросы пока нет, но задавать их людям необходимо. Такие вопросы задает сама жизнь, это делает и искусство, которое в глазах Чехова было ценно не столько ответами, сколько вопросами. Герой «Скрипки Ротшильда», наделенный музыкальным даром, сочинил перед смертью мелодию, в которую вложил свои недоуменные и печальные вопросы; в исполнении другого музыканта она звучит так уныло и скорбно, что слушатели плачут. Растревоженная душа пробудившегося человека продолжает жить в искусстве и будит беспокойство в людях.
Умный, добрый и деликатный доктор Рагин попадает в страшную палату № 6, и это неслыханное несчастье освещает пронзительным светом ложь его жизни и его философского мировоззрения, оправдывающего высшими соображениями примирение со злом мира. Наступает пробуждение совести, появляется чувство личной вины и сознание ненормальности жизни.
Богатый купец в рассказе «Убийство» (1895), наделенный даром мучительного, неукротимого искания правды, попадает под суд за убийство брата и на каторге, униженный, потерявший все, но не сломленный несчастьем, а возрожденный им, преодолевает новую, трудную ступень к настоящей правде. Пожив в тюрьме с людьми разных национальностей и разных вер, прислушавшись к их разговорам и насмотревшись на их страдания, он многое понял н, как ему кажется, «узнал настоящую веру». Автор дает нам понять, что и эта новая вера — лишь этап на пути непрекращающихся духовных исканий. Но многое найдено: как и в «Скрипке Ротшильда», недовольство личной жизнью приводит героя Чехова к ощущению всеобщего неблагополучия. Накануне постигших его испытаний «жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною».
В других произведениях Чехова речь идет о людях просвещенных, живущих, казалось бы, широкими умственными интересами, но оказывается, что их мысль так же дремлет, как у простых людей, и они так же нуждаются в суровом толчке. Для героя «Скучной истории» (1889) таким толчком была самая обычная и совершенно неизлечимая болезнь, имя которой — старость. Старый профессор страдает бессонницей, и уже одно это имеет важное влияние на его мысль, потому что «не спать ночью— значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным». Он вышел из привычной нормы, и суть жизни и человеческих отношений начала приоткрываться перед ним. Временами им овладевают «странные, ненужные мысли», и привычным состоянием его становится недоумение. Тогда покровы обычных представлений спадают перед его взором, он видит свой главный недостаток — равнодушие — и осуждает себя. «Я холоден, как мороженое, и мне стыдно», — признается он в своих записках. Он начинает трезво понимать бездушие своих близких, распадение связей между людьми. В этом прозрении есть свои нравственные издержки: пропадает его прежнее великодушие, его сдержанная объективность, у него появляются злые мысли, каких раньше не было, «мысли и чувства, достойные раба и варвара»; осуждение собственной жизни порою граничит у него с циничным, пессимистическим отрицанием жизни вообще, он начинает поддерживать недостойные порядочного человека разговоры об измельчании современного поколения, об отсутствии идеалов и т. п., и все-таки прозрение не проходит Даром: перед героем Чехова открывается, что «равнодушие— это паралич души, преждевременная смерть». Профессор прожил большую и нужную людям жизнь, научная деятельность, которой он отдал свои силы и свой талант, прославила его имя на весь мир, он горячо любил свою науку и своих студентов, он знал вдохновение творческого труда. Это был человек незаурядный, глубокий и внутренне независимый. Именно поэтому он «вдруг» понял, что в его жизни не хватало внутреннего стержня, что в ней, не было «общей идеи», а без этой идеи жизнь мыслящего человека ущербна и ведет к горестному краху н полному одиночеству. До «общей идеи» профессор не доходит, он даже не знает, в чем должна быть ее суть, но он близок к пониманию того, что «осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас», как сказал в 1888 году Чехов в одном из своих писем {П 111,80).
Самым твердым фундаментом современного мировоззрения Чехов считал естественно-научный материализм. Его многочисленные суждения на эту тему не оставляют в этом никакого сомнения. «Все, что живет на земле, материалистично по необходимости... — говорил Чехов.— Существа высшего порядка, мыслящие люди — материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. По необходимости они могут искать истину только там, где пригодны им микроскопы, зонды, ножи... Я думаю, что, когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос: где тут душа? А если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела» {из письма 7 мая 1889 года.П 111,208).
Таким образом, материалистическое понимание природы и человека как части природы было для Чехова обязательной основой той «общей идеи», в которой нуждается современное человечество. Но тут же сразу возникал вопрос о человеке как существе общественном, о человеческом общежитии, которое должно быть построено на началах доброго согласия и взаимного расположения, о тесных связях между людьми, связях разумных н сердечных. Как добиться установления этих связей? Ответа на этот вопрос Чехов не знал и откровенно признавался в этом. Ни «каторжные» публицисты «Нового времени», ни «копченые сиги» из «Русской мысли», ни «вумныс политико-экономические фигуры» вроде известного народнического экономиста В. В. Воронцова такого ответа не дадут — это было Чехову совершенно ясно. Он был убежден, что ответ должен быть построен совершенно заново, на научном фундаменте и совсем другими людьми.
Себя к этим людям Чехов не причислял, равно как и других писателей своего поколения. Об этом говорят известные слова в письме от 25 ноября 1892 года: «Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь... Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п.» (П V, 134). Чехов считал, что эта болезнь не случайна, что она исторически обусловлена как некое переходное состояние и в этом смысле «болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром...» {П V, 134). Он отвергал советы «уверовать» в жизнь, какова она есть, и отказаться от поисков высших целей.
«Кто искренне думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях «вся наша беда», тому остается кушать, пить, спать, или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука». О себе же самом Чехов заявил совершенно решительно: «...эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их» (П V, 138). Отправляясь на эти поиски, Чехов уносил с собой твердое убеждение в том, что «высшие цели» безусловно необходимы и что все прежние догматические ответы и решения должны быть подвергнуты сомнению.
В повести «Дуэль» (1891) болезнь мысли современных образованных людей предстает в двух разновидностях: дурном гамлетизме (Лаевский) и в бездушной самоуверенности (фон Корен). То и другое есть ложь, оба героя нуждаются в нравственном очищении, и оно наступает для каждого из них. Лаевский переживает глубокий оздоровляющий кризис под влиянием обрушившегося на него несчастья и позора, фон Корен, пораженный возрождением Лаевского, которого считал неисправимым, расстается с прежним жестоким догматизмом. Жизнь, бесконечно более сложная, чем все ее объяснения, показывает ему, что «никто не знает настоящей правды», что людям надо ее искать. «И кто знает? Выть может, доплывут до настоящей правды...» — на этом сходятся оба героя, еще недавно бывшие врагами.
Прямую параллель к «Дуэли» представляет собою Рассказ «Жена» (1892). Перед героем рассказа также возникает необходимость изменить жизнь, переменить характер, стать другим человеком, отказаться от гордон уверенности в своей непогрешимости. Как и в «Дуэли», убеждение в безупречности своих догм приводит героя к отчуждению от людей, к жестокости и даже ненависти к людям. Как и в «Дуэли», герой переживает нравственное воскресение, разрушая предубеждения окружающих, уверенных в невозможности перерождения человека, казалось бы окончательно закосневшего в своих пороках.
Эта же тема ограниченной самоуверенности, приносящей зло окружающим, разрабатывается в рассказе «Соседи» (1892). Его главный персонаж, либеральный тупица Власич, опять-таки «фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления», ясный признак того, что «в его волнениях и страданиях да и во всей его жизни» нет «ни ближайших, ни отдаленных высших целей». Совершенный антипод герою «Жены», человеку властного характера и консервативных взглядов, либеральный по убеждениям и вялый по темпераменту Власич по нравственным достоинствам равен своему антиподу. И тут, и там — тупая, ограниченная самоуверенность, воздвигающая непроходимую стену предубеждений между людьми, разбивающая чужие жизни и сеющая несчастья кругом себя. И тут, и там речь идет не о принципах и убеждениях, самостоятельно продуманных и завоеванных ценою нравственной борьбы, а о принятых на веру взглядах, полученных по наследству и обратившихся в своего рода привычный умственный халат,
Необоснованная претензия на знание «настоящей правды» свойственна не только образованному кругу. В рассказе «Бабы» (1891) мещанин Матвей Саввич также думает, что знает о жизни все; он человек «умственный», поступает не иначе как по строгим принципам старозаветной морали, по «писанию», он так же субъективно честен и так же жесток, эгоистичен и страшен для окружающих своей отчужденностью от настоящей жизни с ее сложными коллизиями. В кривом зеркале его сознания внешний мир отражается упрощенно; сложные движения чужого сердца не умещаются в его душе, и он так же нравственно глух и нем, как и родственные ему герои из образованного класса.
Осуждение догматиков, жестоких и тупых, не понимающих сложности жизни, приводит Чехова к апологии людей бессознательной гуманности, скромных и простых, в простоте своей глубже понимающих жизнь, чем все догматики па свете. Так, в «Дуэли» рядом с Лаевским и фон Корепом становятся нравственно чистые простаки — доктор Самойленко и дьякон, бессознательно отрицающие антигуманную исключительность мысли и исходящие в своем поведении из ощущения сложности жизни и веры в человека. В рассказе «Жена» в этой роли появляется старик Иван Иванович, правдивый и мудрый, хотя и с оттенком юродивости. Он говорит важные и глубокие слова, не придавая им никакого значения. В первой редакции рассказа он развивает даже своеобразную нравственную философию, парадоксальную по форме, но чистую и ясную по смыслу и духу. Это не взгляды, принятые на веру, а результат незаметной для себя самого затаенной сложной нравственной работы. Характерно, что именно он велит гордому рыцарю аристократических предубеждений переменить свой характер и стать другим человеком. В первой редакции рассказа нравственный кризис героя происходит под его непосредственным влиянием. Равным образом и в рассказе «Бабы» сердца простых женщин сразу же настраиваются враждебно к «умственному» мещанину, уверенному в правоте своих человеконенавистнических принципов.
В рассказе «Попрыгунья» (1892) фигура простого и скромного человека, мелькавшего в качестве эпизодического героя в рассмотренных выше произведениях, выдвигается на первый план и приобретает черты нравственного величия. Осип Дымов — это скромный подвижник науки, наделенный необыкновенной добротой и душевной деликатностью; он внешне не ярок и не заметен для ординарных людей вроде его жены-попрыгуньи, которая претендует на высшую интеллектуальность, но не может понять истинного и скромного величия своего мужа. Чехов видит в своей героине те же черты, которые он и раньше осуждал в людях («Жена», «Соседи»),— Несамостоятельность мысли, ординарность суждении, склонность к штампованным представлениям, внутреннюю холодность к окружающим, отчуждение от них. Апология нравственного величия и сердечной простоты людей, не думающих о себе, связывает Чехова с Толстым, равно как и вера в возможность нравственного воскресения, столь ярко сказавшаяся в «Дуэли» и «Жене». Отказ от поверхностных, догматических теорий, враждебных человеку, и необходимость поисков «настоящей правды» — к этому зовет Чехов в 90-х годах.
Принципы реализма в прозе 90-х годов.
«Доплыть до настоящей правды», найти в пестром хаосе разрозненных фактов и впечатлений «общую идею», увидеть скрытый смысл в нагромождении странностей и бессмыслиц современной жизни, частной и общей, — дело необычайно трудное и, однако, по мысли Чехова, все-таки возможное. В рассказе «Гусев» (1890) Чехов внешне спокойным тоном, как о чем-то вполне обычном, рассказывает о делах необычных, непонятных и до бессмысленности странных и бездушных. Люди бездушны или тупо покорны, бездушна природа, бессмысленна жизнь, бессмысленна смерть. На палубе парохода, вдали от родины умирают больные матросы и солдаты, которых военные доктора обманом сдали на пароход, чтобы не возиться с ними. В первом классе чистая публика, которая и не подозревает о том, что делается на палубе. А там люди спят, бродят, думают о чем-то смутном, неясном, иногда о возвышенном, иногда о грубом и мелком; один солдатик умирает во время карточной игры, как-то совсем незаметно, точно невзначай. Из общей массы Чехов выделяет рядового Гусева, прослужившего неизвестно зачем пять лет на Дальнем Востоке в денщиках. Он показан не как человек, чем-то непохожий на других, а как один из многих. Понять Гусева — значит понять всех, увидеть смысл или бессмыслицу человеческой жизни. Иногда Гусев кажется нам чуть ли не тупым дикарем, он смотрит на человека чужой земли и думает: «Вот этого жирного по шее бы смазать», он серьезно рассуждает о ветре, который с цепи сорвался, — «так крещеные говорят»... И тот же Гусев с сердечностью и душевной теплотой вспоминает о родной деревне, о брате, о детишках, и мысли его радостны и нежны. Рассказ о погребении в океане бессрочно отпускного рядового Гусева Чехов превращает в картину удивительной значительности и силы. Вся бессмыслица жизни вдруг отодвигается и уходит куда-то, точно ее и не было. Остаются только всевидящий автор и равнодушная природа, которая блещет невиданными красками, не имеющими названия на человеческом языке. Авторскому взору открыто, что мертвого Гусева в морской глубине ест ленивая акула, но красота торжествует над всем, и автор говорит о ней простыми, почти детскими словами, чтобы не оскорбить ее совершенства литературными побрякушками. Повествование заканчивается трагическим апофеозом, и образ красоты, венчающий рассказ о жизни и смерти Гусева, звучит как обещание счастья, полноты существования, как предчувствие времени, когда, говоря словами Достоевского, жизнь «восполнится».
Предчувствие счастья охватывает героя рассказа «Студент» (1894) Ивана Великопольского несмотря на то, что жизнь людей мрачна и печальна. На пасху вдруг вернулась суровая зима, крестьяне живут скудно, бедно, кругом «мрак, чувство гнета», ни проблеска надежды, ни одного светлого впечатления, души людей омертвели и, кажется, никогда не оживут. Но это не так. Иван Великопольский рассказывает простым крестьянкам евангельскую легенду о мучении и страданиях Христа, о предательстве Иуды и об отречении Петра, о его человеческой слабости, о его раскаянии и горьких слезах. В рассказе студента духовной академии Ивана Великопольского нет ничего мистического, евангельскую историю он передает как житейский случай, в его рассказе нет идеи искупления людских грехов, в нем ничего не говорится о воскресении Иисуса. Человеческая слабость Петра объясняется тем, что ночь была холодная и он не выспался. Крестьянки тронуты этим рассказом, они плачут, и это говорит студенту о том, что правда и красота не пропадают, как ничто не пропадает в природе и в жизни людей, что все явления связаны друг с другом и «прошлое... связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого». Мысль, вернее догадка, о том, чти при всей силе и кажущейся неизменности зла «правда и красота... по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле», получает почти научное обоснование. Душа человека, внезапно постигшего эту истину, наполняется радостью, и жизнь кажется ему «восхитительной и чудесной и полной высокого смысла».
Так раскрывается в творчестве Чехова 90-х годов «общая идея», и мысль о вечности красоты и правды, ощущение близости счастья становятся главными мотивами его произведений, даже когда они не выражены прямо. Герои Чехова начинают догадываться о «настоящей правде», и среди тяжестей грубой и несправедливой жизни их вдруг охватывает чувство радости и счастья. Героиня рассказа «На подводе» (1897), сельская учительница, огрубела от беспросветной тяжести существования, привыкла к своей доле, хотя, как и все люди с душой и сердцем, не понимает, почему «вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце». И вдруг радостное воспоминание прошлого внезапно вызывает из глубины сознания мысль о счастье, какого никогда у нее не было, «и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество». Простор и красивое спокойствие степи говорят героине рассказа «В родном углу» (1897), «что счастье близко и уже, пожалуй, есть», но «прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое», и оба эти ощущения живут у героев Чехова рядом: жизнь устроена непонятно и печально, однако в ней существует трудно поддающийся определению, но всегда реальный закон, обещающий людям исполнение их предчувствий н иногда приоткрывающий перед ними общий смысл жизни и непреходящее значение высших ценностей, этических и эстетических одновременно.
«И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается е ночью». Это сказано в повести «В овраге» (1900), так кажется простым и чистым сердцем женщинам, автор передает этими словами их мысли. Он говорит за них и в то же время от себя, он согласен со своими героинями в коренном и главном. Стихийные чувства героев и сознательная мысль автора сливаются. Эти настроения и мысли дают людям силу жить. «И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими», Липой и ее матерью, но потом они почувствовали, что власть зла не беспредельна. «И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули».
Все это не значит, конечно, что, формулируя свой закон о главенствующем значении правды н красоты в жизни мира, Чехов стремился к успокоению людей. Напротив, в свете этого закона безрадостная и несчастливая жизнь современного человечества представала в рассказах и пьесах Чехова как нечто совершенно бессмысленное, ненормальное, странное, и чем более привычной она была, тем яснее выступала ее фантастическая суть. В рассказе «Бабье царство» (1894) взят один день из жизни молодой и как будто счастливой владелицы фабрики, и день к тому же праздничный. Героиня рассказа хороша собой, образованна, в расцвете сил и молодости; она не тоскует, не томится, не чувствует себя несчастной. Однако смысла и цели в ее жизни нет, и она не может не ощущать этого ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Рабочие, которые глохнут и слепнут от непосильного труда, несчастные бедняки-просители, которым помочь невозможно (всем не поможешь), деньги, которые не приносят счастья никому, даже ей самой, — все это создает у героини Чехова ощущение нелепости, неустроенности, ненужности и вызывает желание изменить жизнь, но как ее изменить — неизвестно. Она подумывает о том, чтобы выйти замуж за простого рабочего, но в ее положении это было бы фальшиво. Заняться благотворительностью — опять фальшиво и стыдно. «Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить, — как это странно!»
На каждом шагу заставляет Чехов свою героиню чувствовать неловкость, скованность. Анна Акимовна хочет сказать доброе слово заводскому учителю, но только она решила осуществить это совсем маленькое доброе намерение, «ей стало скучно и неловко». И происходит это не потому, что Анна Акимовна была изъедена рефлексией, нет, — она вышла из рабочей среды, она человек простой и непосредственный. Причина, очевидно, заложена не в ней, а в самом устройстве жизни. Жизнь устроена так, что не приносит счастья даже хозяевам этой жизни, если только они хоть немножко вышли за границы обывательского ординара.
Никакого трагизма в рассказе нет, все просто, обычно. Показан праздничный день, веселье, праздничное настроение, ничего нет удручающего, но все получается не так, как хотелось бы. В результате возникает ощущение дурной середины, утомительной и никому не нужной суеты. Рассказ ведется неторопливо, даются подробные описания быта, мелькают бытовые фигуры, в рассказе много лиц и нет никакого движения, нет никакой борьбы, пет столкновения интересов. Задача рассказа — показать самое лицо жизни, не выдающийся или особо примечательный эпизод, а типически обобщенную картину будничной жизни в ее временном течении. Здесь — это один день, в другом случае—«три года» из жизни человека или даже целая человеческая жизнь, а общая идея во всех случаях одна и та же: нелепое уклонение жизни от нормы.
Вот итог рассказа «Три года» (1895): «Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и. в конце концов, умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих». И точно так же, как в «Бабьем царстве», рядом с таким итогом развертывается сознание необходимости мной жизни и одновременно ощущение невозможности пробиться к ней.
Самые глубокие итоги этой социально-психологической темы подведены в рассказе «Случай из практики» (1898). Доктор Королев, герой рассказа, отправляется лечить молодую девушку, дочь богатой владелицы фабрики, и все, что он видит, поражает его совершенной нелепостью. Фабрикантша несчастлива потому, что больна какой-то странной болезнью ее дочь; девушка страдает приступами тоски потому, что не понимает смысла своего существования; рабочие живут бедно, они нервны, они работают в нездоровых условиях; счастлива одна только гувернантка, которая любит мадеру и имеет возможность ее пить. Королев поражен этой удивительной бессмыслицей. «Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна». И далее: «Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь».
Доктор Королев, всегда считавший, что частичные улучшения в жизни рабочих хотя и полезны, но подобны лечению неизлечимых болезней, теперь приходит к более общему и широкому выводу о том, что «это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку». Так воспринимает Королев характер жизни людей в условиях пореформенного, буржуазного строя с его фабриками, заводами, рабочими бараками, с бедностью и запуганностью работающих и с всеобщей растерянностью перед стихийными силами, господствующими над людьми.
Любопытно, что Королев говорит об ошибке, недоразумении и логической несообразности, хотя он достаточно умен и совестлив, чтобы увидеть во всем строе жизни вопиющую социальную несправедливость. Как и сам Чехов, он, конечно, видит ее, но предпочитает говорить об ошибках, недоразумениях и несообразностях, потому что несправедливое с одной точки зрения может быть признано справедливым — с другой, логическая же несообразность видна всем, у кого есть глаза, и оправдана быть не может. С этим связан и образ дьявола, который неожиданно появляется в размышлениях доктора, хотя, разумеется, он в дьявола не верит. Дьявол здесь — это олицетворенная слепая необходимость, это сила, заставляющая людей жить по закону несообразности, это реалистический символ, предвещающий купринского Молоха и Город Желтого Дьявола у М. Горького.
Однако не только дьявольское страшно у Чехова. Но менее страшно и обыденное. «Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться», — говорит Силин, герой рассказа «Страх» (1892). «Да, голубчик мой, — вздохнул он, — если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного». Под влиянием этого страха безвестный герой рассказа заболевает «боязнью жизни». Но сам по себе этот страх не является состоянием патологическим. Напротив, по Чехову, это скорее естественная реакция на ненормальность жизни. «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне, — говорит рассказчик в финале повествования. — Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают». Характерно здесь чеховское словосочетание «странно и страшно»; более обычный комплекс «странно и смешно» был широко использован Чеховым в начальном периоде его творчества.
В этом рассказе страшным для повествователя оказывается некое событие, правда вполне обычное для людей его круга, но все-таки событие — супружеская измена. Гораздо существеннее и показательнее для Чехова такие положения, когда страх внушают не жизненные трагедии, а житейские идиллии. В рассказе «Учитель словесности» молодой человек счастливо женился, и жизнь его потекла безмятежно и идиллично. В 1889 году, когда рассказ был задуман, Чехов такой идиллией его и закончил. Уже и тогда это было для него не ко времени, а впоследствии стало и совершенно невозможным. Вернувшись к рассказу в 1894 году, он уже не пощадил своих «провинциальных свинок» и безжалостно разрушил созданную ранее идиллию. Жизнь молодого человека именно благодаря ее безмятежности заполнилась «мелочами» и «пустяками», превратилась в ординарное паразитическое прозябание: перед ним встали очертания другого мира, наполненного борьбой, тревогами и достижениями; идиллия завершилась записью в дневнике: «Где я, боже мой? Меня окружает пошлость и пошлость, Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»
В рассказе «Ионыч» (1898) именно на примере счастливой семьи Туркиных особенно ясно становится, что страшны не внезапные, резкие перемены и повороты в человеческой судьбе, страшно только одно: жизнь, которая совсем не меняется, в которой ничего не происходит, в которой человек всегда равен себе; при этом счастливый домашний очаг в обывательской среде оказывается первичной, простейшей ячейкой такой именно жизни. «Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям своп романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре». Это и есть, по Чехову, безысходно страшная жизненная ситуация.
Иногда «ошибка», «логическая несообразность» обыденной жизни представляется Чехову в форме фантастической несообразности сна. В рассказе «По делам службы» (1899) следователь Лыжни видит во сне, как два несчастных человека, с которыми его случайно столкнула судьба, старик-«цоцкай» и самоубийца Лесницкий, идут в метель, поддерживая друг друга, и поют, точно в театре: «„Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей.., У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем..."
Лыжин проснулся и сел в постели: « Какой смутный, нехороший сон!»
Но именно в этой смутной нелепице сна раскрывается Чехову и его герою нелепое могущество все той же «неведомой силы», которая связала всех людей невидимой связью и заставляет почему-то каждого человека чувствовать вину и ответственность за тот строй человеческих отношений, который сложился без его вины и помимо его воли.
Иногда алогизм обыденной жизни выражается у Чехова в том, что люди у него начинают действовать точно без участия сознания, не как существа, а как человекоподобные манекены. Так изображена драка отца и сына Лычковых в «Новой даче» (1899).
«Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стукали друг друга по головам...»
То, что предполагает исступление, страсть, движение, совершается бесстрастно, монотонно («п опять ударил сына, и опять по голове»), почти без движения («Лычков-отец даже не покачнулся»). И чтобы не оставить никакого сомнения в том, каков смысл этого способа изображения человеческих действий, Чехов заключает свое описание такой фразой: «...и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру».
В мире, неразумном до фантастичности и ненормальном до безумия, нормальное воспринимается как ненормальность, а безумие как здравый смысл. У Чехова в «Палате № 6» показано то «всеобщее безумие», которое считается обыденным порядком жизни. Там, в сущности, все ненормальны: один болен равнодушием, другой — неизлечимой пошлостью, третий — тупой наглостью, четвертый — манией преследования. Иван Дмитрич — настоящий сумасшедший, психически больной человек, он болен манией преследования, и в то же время в нем есть донкихотское начало: он единственный среди всех, кто думает и говорит «о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле». Он не проповедует при этом новых истин, его страстные речи — это «попурри из старых, еще недопетых песен», эти песни напоминают людям о давно известном, изначально человеческом, но забытом в суете бездумного и безумного существования и погребенном под пеплом обыденности. Мысли безумца наивны и стары, по в то же время истинны и долговечны. Пессимистические и фаталистические идеи доктора Рагина корнями своими уходят в философию древних, они ведут к Марку Аврелию, например, но в них есть все признаки модных философских течений, доказывающих невозможность и ненужность возмущаться подлостью и насилием, надеяться на изменение жизни. Это, по мысли Чехова, великая неправда, безумие, прикидывающееся мудростью. Против этой лжи в финале рассказа восстает совесть доктора Рагина и одерживает позднюю и уже ненужную победу. Истинным же победителем оказывается человек, в ненормальности своей увидевший безумие жизни, к которой все привыкли.
В «Черном монахе» (1894) другой чеховский больной, страдающий манией величия, в периоды обострения болезни становится мечтателем, опьяненным красотой мира, чувствующим ту радость, которая должна быть нормальным состоянием человека. Когда же болезнь затухает и Черный монах покидает его, он становится капризен и мелочен, несправедлив и жесток. Вместе с манией его оставляет величие. Черный монах льстит ему, лукаво внушает иллюзию избранности, якобы возвышающую его над человеческим «стадом», и он же поднимает его на высоты духа, делает его добрым и любящим, благородным и великодушным, готовым умереть для общего блага. Наконец, Черный монах приносит ему последнее утешение в предсмертные минуты, возвращая ему «молодость, смелость, радость» и «невообразимое, безграничное счастье» — все это, увы, вместе с манией величия. Жизнь такова, что человеку нужно стать безумцем, чтобы вернуть себе радость жизни, широту мысли, душевный размах, то есть естественную норму существования. Речь идет, разумеется, не о медицинских взглядах автора: Чехов-врач не мог идеализировать психическую болезнь. Задача Чехова-писателя заключалась в том, чтобы, не погрешив против точных данных медицинской науки, осветить современную жизнь светом необычного сознания, чуждого привычным «нормальным» понятиям.
Говоря о коренной испорченности, о ненормальности современной жизни, Чехов не оставляет места ни для каких иллюзий, даже самых благородных, например народнических или толстовских. Это яснее всего сказывается в рассказах Чехова о деревне. Он не увидел в деревне ни особых общинных «устоев», ни «власти земли» и ничего иного, что возвышало бы деревню над всей современной жизнью, и это было недаром воспринято современниками как новое слово о деревне; Чехов увидел там «власть капитала», Мисаил Полознев в «Моей жизни» так говорит о положении вещей в России и в мире: «Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным». Так всюду — и в городе, и в деревне, только в деревне общий порядок жизни проявляется в более примитивных и потому особенно наглядных формах. Крестьяне ненавидят своих притеснителей, их озлобление понятно и естественно: они оскорблены, обижены и напуганы всеми, кто хоть немного сильнее их, но и сами они, зажиточные и бедные, в одинаковой степени «грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся», отвратительно бранятся. В рассказе «Мужики» (1897) даже лакей в ресторане, вернувшись в род->;ую деревню, ужасается физической и моральной скудости деревенской жизни. Он сам, его жена и дочь чувствуют себя в деревне чужими, но все это происходит не потому, что городская жизнь в глазах Чехова выше деревенской, а потому, что непонятные силы, управляющие жизнью людей, проявляются здесь с неприкрытой грубостью и «логическая несообразность», лежащая в основе жизни, выступает во всей пугающей наготе.
Обнаженность неправды, ее привычность, ужасы жизни, как они проявляются в современной деревне, — все это ярче и страшнее, чем в других произведениях Чехова, отразилось в его рассказе «В овраге». Здесь показана не просто грубость и несправедливость жизни, а ее страшная жестокость и господство в ней наглой силы, ни в чем не сомневающейся и уверенной в себе. Задолго до Чехова Глеб Успенский показал в «Книжке чеков» (1876) разницу «между старым и новым представителем капитала» о деревне. Старый деревенский хищник в глубине души знал, что живет «не совсем чтобы по-божески», новый не боится ничего и не знает моральных запретов. Прошло четверть века, и Чехов ясно увидел, к чему привел новый пореформенный порядок в деревне. Убийство малого ребенка ради корыстных целей теперь воспринимается не как ужасное злодеяние, а как бытовое явление, и автор говорит об этом спокойно, не повышая голоса, подчеркивая наивностью и простотой своей речи се вопиющий смысл. Обман и обсчитывание, тайная торговля водкой, открытый разврат, фабрикация фальшивых денег, изгнание из дома старого и ослабевшего владельца — все это рядовые детали общей картины. Красивая и наглая Аксинья, похожая на змею и улыбающаяся наивной улыбкой, одерживает над всеми, кто ей мешает, легкие победы, и образ ее приобретает символический характер торжествующего зла. У нее нет ни совести, ни жалости, ни понятий о правде и грехе — ничего, что образует нормального человека; все чувствуют в ней силу, и никто не осуждает ее. В ней воплощается общепринятый, понятный и привычный строй современных отношений, строй настолько противоестественный, что при всей очевидной прочности он становится призрачным и эфемерным.
В том же самом мире, в котором господствуют Аксинья, Цыбукин и Хрымины, живут такие странные и необычные люди, как плотник Костыль, который знает, что. «кто трудится, кто терпит, тот и старше», и не уважает собственность, отрицает ее всей своей жизнью. Есть в этом втором, пребывающем на теневой стороне мире свои самобытные мыслители, как тот старик, что ночью повстречался Липе, возвращавшейся из больницы с телом умершего младенца-сына на руках. В нескольких словах он высказал утешительную мысль о связи между огромностью пространства и исторической судьбой России, в жизни которой было и будет хорошее и дурное, и хорошего будет больше.
Липа, похожая на ребенка и на жаворонка одновременно, задает вопрос в духе героев Достоевского о смысле страданий детей; «Когда мучается большой человек, мужик или женщина, ему грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов?» После получасового молчания философствующий герой Чехова дает ей ответ совсем не в духе праведников Достоевского, знающих окончательную и полную истину. «Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает». Предполагается, очевидно, что, если надо будет знать больше, «чтобы прожить», он узнает и больше. В этом скромном самоограничении мысли, соединенном с полным довернем к ней, по идее Чехова, больше утешительного для человеческого сердца, чем в тех словах, которые потом сказал Липе батюшка, подняв вилку с соленым рыжиком: «Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное», В облике старика, в его словах, в его доброте Липа чувствует дыхание святости, и сердце ее смягчается.
Значит, есть в мире святость, есть мудрость, есть жалость, есть радость честного труда, есть красота природы, словом — есть высшие ценности, которыми держится мир. Характерно, что этот рассказ, один из самых мрачных у Чехова, кончается светлым эпизодом, показывающим воочию, что «свет во тьме светит». Липа, поющая, глядя вверх на небо, и торжествующая, что настало время отдыха, возвращается вместе с матерью с поденки и встречает старика Цыбукина, изгнанного из дома. Липа низко кланяется ему и подает кусок пирога. «Он взял и стал есть». «Липа и Прасковья, пошли дальше и долго потом крестились». Действующие лица этой финальной сиены не говорят ничего, если не считать слов Липы: «Здравствуйте, Григорий Петрович!», даже пирог она подает молча. Недавний богач принимает милостыню, не проронив ни единого слова. Автор так же сдержан, как его герои, он ограничивается краткими ремарками, вроде того, что у старика дрожали губы и глаза были полны слез. Сцена почти безмолвная, тем больше в ней глубины и перспективы. В ней целая гамма идей и чувств: здесь и мысль о сложности и запутанности человеческих взаимоотношений, о бездушии людей и о вечно живой человечности, о страшной грубости жизни и одновременно о ее святости. Финал рассказа звучит как обещание правды, слияния с которой ждет все на земле.
Люди непосредственные и простые; чуют правду сердцем, как Костыль или Липа, другие доходят по нее умом и размышлением, анализом опыта жизни, своей и обшей, ошибаются, вновь ищут, а порой вовсе теряют веру, не смея признаться себе в этом. Мужик, как бы он ни одурманивал себя водкой, все-таки верит, «что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому 'больше всего на свете он любит справедливость». Это сказано в повести «Моя жизнь» (1897). В этом произведении и в некоторых других Чехов показывает, что положение человека из образованного слоя значительно сложнее. Герой «Рассказа неизвестного человека» (1893), народник революционного толка, человек честный, с героическим прошлым, внезапно чувствует, что прежняя вера ушла от него и что ему хочется обыкновенного человеческого счастья. Он пытается объяснить этот поворот тем, что он почувствовал правду учения о всеобщей любви, но автор дает понять, что это не новая вера, а лишь увертка мысли. Так же понимает дело и женщина из высшего общества, которая пошла за ним как за сторонником утерянных им идей. Она говорит Неизвестному человеку: «Смысл жизни только в одном — в борьбе. Наступить каблуком па подлую змеиную голову и чтобы она — крак! .. В этом одном, или же вовсе нет смысла», но он уже потерял инстинкт борьбы и не может поддержать разбуженного им человека. Он не виноват в потере прежних взглядов, и не он один в ту пору отошел от героических традиций революционеров 70-х годов. Были среди них и люди субъективно честные, но в их разочаровании Чехов видел признак утомления, симптом социально-идейной болезни. Бывают обстоятельства, когда человек становится виноватым без вины, но все-таки виноватым. В таком именно положении оказывается Неизвестный человек. Зинаида Федоровна, видевшая в нем героя борьбы и не нашедшая у него поддержки своим стремлениям, кончает самоубийством, В финале повести Нечестный человек мирно беседует со скептиком и циником Орловым, которого ранее ненавидел за его презрение ко всякой идейности. Тема «Рассказа неизвестного человека» — это трагедия безверия, и исповедь героя звучит как признание в жизненном и идейном крахе.
Герой рассказа «Дом с мезонином» считает людей искусства «высшими существами», но в то же время он понимает, что великая цепь, опутавшая народ, опутала и его самого и что люди искусства в современных условиях работают «для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок». Для героя рассказа существует природа, красота, любовь. Художник по профессии и по духу, он ближе к «настоящей правде», чем прозаическая и властная Лида Волчанинова. Характерно, что в жизненной борьбе победительницей оказывается она, а не художник с его любовью и «бесполезными» пейзажами. В этом отражается суровая логика жизни: красота и правда плохо защищены в этом мире, деспотизм гораздо сильнее, и все-таки в свете высших ценностей и целей тоскливый возглас художника «Мисюсь, где ты?» значит больше, чем все земские победы и полезные начинания Лиды Волчаниновой с ее трезвыми взглядами и скучными кружками симпатичных ей людей. Ограниченность и жестокость одерживают не полную и не безусловную победу, и финал «Дома с мезонином» по смыслу аналогичен заключительному эпизоду повести «В овраге». Так почти всегда у Чехова в 90-х годах. Жизнь в его произведениях протекает на грани сущего и должного. Чем страшнее и фантастичнее мир, тем реальнее жизнь иная, ожидаемая. Чем меньше жизнь отвечает ожиданиям и надеждам людей, тем поэтичнее становятся эти надежды, тем более справедливыми кажутся ожидания. Разумный и счастливый строй жизни уже на пороге. Но как перешагнуть этот порог - пока никто не знает, и жизнь течет в тех же берегах.
Анализ человеческих отношений Чехов производит именно в сфере мелочей, пустяков, недоразумений, из которых «сложилась жизнь, как из песчинок гора». Чтобы понять, как же она сложилась, нужно обратиться не только к выдающимся случаям в жизни человека, но и к самым мелким, ничем не примечательным фактам и фантикам. Общин характер жизни, если только он понят правильно, должен быть виден в неприметном так же ясно, как и в резко бросающемся в глаза. Если жизнь плохо устроена, то это видно во всем.
С этим связана спокойная ясность повествовательного тона Чехова, которая приводила в изумление его современников, а у противников вызывала негодование. Многие критики говорили о бездушном отношении Чехова к людям, о безразличии его к добру и злу, о его бесстрастии и хладнокровии. На самом же деле в ровности и спокойствии чеховского тона отражалось не равнодушие, а ясное понимание, что житейские «мелочи» так же важны и существенны, как тяжелые драмы жизни, что и в том, и в другом проявляется ненормальное устройство человеческих отношений. Поэтому Чехов не чувствовал потребности говорить о мелких несообразностях иным тоном, чем о бросающихся в глаза резких выражениях социального зла.
Как уже сказано было ранее, М. Горький отметил: «...Речь его всегда облечена в удивительно красивую и тоже до наивности простую форму, и эта форма еще усиливает значение речи»[7] В самом деле, во многих рассказах речь Чехова становится простой до «наивности». Одинаково ровным, эпическим тоном рассказывает он о мелочах быта, о повседневных делах люден и о потрясающих жизненных драмах — например, о зверском убийстве ребенка в рассказе «В овраге».
«Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо».
«Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой».
Никакого проявления авторской взволнованности, никакого психологического анализа материнского горя или душевного состояния убийцы, минимум эмоциональных подробностей, спокойная конструкция фразы, рассчитанная на точную передачу событий в их последовательности («сказавши это», «после этого» и т. п.), удивительная простота в синтаксической связи предложений, напоминающая старинные тексты («и не верилось», «и на дворе»), — все это создает ощущение простоты, доходящей до особой, мудрой «наивности». И на фоне такого простого повествования, иной раз вполне прозаического, будничного, особенно сильное впечатление производят лирические взлеты в речи автора, своеобразные стихотворения в прозе, выражающие предвосхищение иной жизни.
Таков был художественный принцип Чехова, определивший не только манеру повествования, но и сюжеты его рассказов, их композицию, характеры его героев, их отношение к жизни. В сюжетах Чехова чаще всего нет открытого трагизма, трагизма событий, в них все просто, обыденно, в их основу положены не события, а случаи, а иногда даже и случая нет, как, например, в «Бабьем царстве», где показано самое лицо жизни, а не какой-либо эпизод, специально выбранный из-за его особой значительности или характерности. Обыденность предмета изображения у Чехова свидетельствует не о его низменности, как это бывает у Гоголя, а о его всеобщности. Художественное задание Чехова в том, чтобы проверить свое представление о жизни на любом «случае из практики» или на любом отрезке жизни, точно застигнутой врасплох. Это дало повод современникам Чехова говорить о том, что выбор тем и сюжетов поражает у него своей случайностью. Эффект случайности был следствием художественной установки на всеобщность. Рассказы Чехова построены не как новеллы, в которых повествование стремится к событию, к происшествию, трогательному, или страшному, или забавному. Рассказ Чехова ведет не к событию, а к итогу разрозненных наблюдений, к общему впечатлению, слагающемуся из частностей. Эти частности, относятся ли они к бытовой обстановке или к поведению человека, необязательно обладают чертами социальной или психологической характерности, как это было у мастеров старого реализма, продолжавших традиции натуральной школы. Наряду с ними у Чехова важную роль играют частности, представляющие собою не приметы группы, сословия, профессии, а резко индивидуальные приметы лица, данного персонажа, этого человека, а не этих людей.[8] Здесь опять-таки действует принцип всеобщности, последовательно примененный ко всему, что наблюдает художник, — принцип, распространяющийся одинаково как на целые группы людей, так и на каждого отдельного человека со всеми мелкими и мельчайшими особенностями его быта и поведения.
Нечто подобное было уже у Л. Толстого; всем памятны толстовские приметы внешности персонажей, настойчиво повторяемые и точно сросшиеся с их обликом, как уши Каренина или чисто вымытый шрам на лице Кутузова. Этот вымытый шрам вызвал недоумение Константина Леонтьева, решительно отказывавшегося понять, к чему нужна такая косметическая подробность. Он же считал совершенно произвольным и ненужным изображение бреда умирающего Андрея Болконского со всеми неповторимыми особенностями бредового состояния вплоть до воспроизведения не имеющих смысла, каких-то шепчущих звуков, которые слышались больному. Между тем Толстому было важно не то, что бывает с людьми в подобных случаях, а то, что было в данном случае с данным человеком и больше никогда и ни с кем не повторится. Можно в связи с этим вспомнить и эпизод с Наташей Ростовой, тоскующей по князю Андрею и изнемогающей от чувства полноты и напряженности жизни. В этом необычном состоянии она вдруг произносит: «Остров Мадагаскар», потом повторяет эти слова, отчетливо произнося каждый слог. Этот остров Мадагаскар возникает у Наташи по непонятной для читателя ассоциации, он не упоминался раньше, не упоминается потом. Такой случай никогда больше ни с кем не повторится, это как бы знак отличия, выданный именно Наташе. Этим персонаж, обрисованный с такой степенью индивидуализации, изымался из общего круга и рассматривался как более значительный и важный. У Чехова же задача другая: он не выделяет, а объединяет; он воссоздает картину современной жизни, ее дух и смысл, ее тон и ритм, ее характер, сказывающийся во всем — в общем и частном, в крупном и мелком, в необходимом и в возможном, в жизни всего общества и каждого человека.
Люди у Чехова разделяются на подлинных людей, с душой и сердцем, и на «шершавых животных», как называют в «Трех сестрах» Наташу. Эта черта пролегает у Чехова очень резко. Людей, недостойных имени человека, у него немало, и они чаще всего оказываются самоуверенными хозяевами положения, не задумывающимися лад жизнью. Настоящие люди, выдающиеся и обыкновенные, пытаются понять смысл своего существования, они рассуждают о жизни, вдумываются в нее, ищут ответов, и автор воспроизводит их мысли и впечатления.
В литературе о Чехове отмечалось, что его герои часто и охотно рассуждают, выражая подчас своп мысли чрезвычайно пространно и литературно. Это, однако, вовсе не обозначает, что все они высказывают свои заветные убеждения. Напротив, иные говорят просто из любви пофилософствовать, чтобы почувствовать себя мыслящими людьми, иной раз они красуются «честными» убеждениями перед собой и другими. Бывает, что идейные сентенции высказываются под влиянием минуты, а когда породившее их настроение пройдет, люди сами понимают цену недавно высказанных слов. Это уже нечто идущее из глубины души, это от способности искать правду.
Иногда у героев, а чаше всего у героинь Чехова среди обычного, незначительного разговора внезапно вырвется что-либо наивно-простое, детское, «глупое» и придает ей особую значительность. Так же звучат слова Маши в «Трех сестрах» о том, что человеку непременно нужно знать, «для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе». Пусть рядом с этим появятся у того же человека мысли пустые и суетные, все равно наивные и детские слова выделятся среди них своей особой глубиной. И это приблизит людей, способных так думать, к автору и к читателю.
Нередко у Чехова мысль героев не достигает полной ясности, они даже не думают, им только «думается», «кажется», и это еще более верный знак их сближения с автором. В таких случаях дистанция между повествователем и людьми, о которых он рассказывает, почти совсем не ощущается. Формула «кажется», «казалось», «думалось» и т. д. часто встречается в произведениях Чехова. «Но казалось им, что кто-то смотрит с высоты неба, из синевы. . .» «Казалось, будто тень легла на двор». Эти две фразы из повести «В овраге» дают представление о смысле этого приема и других, аналогичных форм безличной и неопределенной характеристики мыслей и настроений людей. Для понимания души человека важно не только то, что может быть высказано словами, а и то, что только чувствуется и кажется, — не только мысли, но и смутные ощущения, предтечи мыслей, та психическая лаборатория, в которой формируется мысль.
На этом же принципе изображения того, что «кажется», строятся и прославленные чеховские пейзажи. Так, изображение грозы в повести «Степь» выдержано именно в таких тонах. Гроза начинается, блестит первая молния; это показано так, «как будто кто чиркнул по небу спичкой», при этом слово «молния» не произнесено, то есть дается не описание молнии, а впечатление, ею произведенное. Гремит первый раскат грома, для воспринимающего это значит, что «где-то далеко кто-то прошелся по железной крыше», при этом слово «гром» опять-таки, не названо. На небе появляется страшная туча, «на ее краю висели большие, черные лохмотья». «Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение». Это все из области того, что «кажется». Здесь многое можно прикрепить к восприятию впечатлительного девятилетнего мальчика Егорушки и не только Егорушки, но и других людей, не утративших способности к непосредственным, субъективным, наивным впечатлениям. Кажущееся Егорушке кажется здесь и рассказчику, и читателю, приобретая, таким образом, всеобщность.
Удивительный по смелости пейзаж, заканчивающий рассказ «Гусев», строится именно как такое всеобщее впечатление. Воспринимающего человека здесь нет. Все происходящее видит автор. На небе скучиваются облака, «одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»... Это из области кажущегося («похоже»), но сразу за этим дается протокольно точное перечисление пейзажных «событий»: «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим золотой, потом розовый...» И это объективное описание красок не противостоит субъективному изображению форм (облако, похожее на ножницы), потому что подчеркнутый лаконизм и подчеркнутая простота в описании ложащихся рядом одноцветных лучей, без оттенков и переливов, производят впечатление чего-то непосредственного и элементарно-бесспорного, как нравившееся Чехову детское описание моря: «Море было большое». Очевидно, не безразлично здесь, что рассказ Чехова посвящен совсем простому человеку, в натуре которого было нечто детское, и глубокое, и художественное. Гусев погребен в морской пучине, но он как бы незримо присутствует в финальной картине высокого неба и прекрасной поверхности океана, приобретающего под конец такие цвета, «которые на человеческом языке и назвать трудно». Чье впечатление воспроизводит этот пейзаж, как и другие, ему подобные? У кого это впечатление возникает, кому так видится и кажется? «Кажется» — это нечто сугубо личное, беглое, одномоментное и в то же время — у Чехова — это общее впечатление, характерное для многих, в том числе и для рассказчика, которому в этих случаях кажется то же, что и тем, кому он это впечатление прямо или косвенно приписывает.
Реалистические принципы драматургии Чехова.
Принципы и методы реалистического искусства, сложившиеся в прозе Чехова, параллельно разрабатывались им и в драматургии, к которой Чехов обратился с самых ранних шагов своей литературной деятельности. Однако важное отличие Чехова-драматурга заключается в том, что он начал с широких социально-психологических тем. Юношеская драма без названия и более поздняя пьеса «Иванов» (1887—1889) разрабатывают тип героя своего времени, именно тип, понятый как олицетворение наиболее существенных черт современного общества, прежде всего — его культурного слоя. Герои обеих пьес как бы претендуют на то, чтобы от их собственного имени было образовано обобщающее понятие, как от 06ломова — обломовщина. Характерно, что пьесу без названия, не издававшуюся и не ставившуюся при жизни автора, последующие постановщики стали называть именем главного героя — «Платонов». И Платонов, и Иванов— это лишние люди новой формации. О Платонове говорят, что он — «лучший выразитель современной неопределенности». Эта неопределенность, отсутствие идеалов и целей жизни, беспомощность, бессилие, безволие,
фразерство, склонность к дешевому обличению и дешевому саморазоблачению — черты, наиболее ярко воплотившиеся в Платонове, — свойственны, однако, почти всем, и старшему, и младшему поколению одинаково. Вместе с тем связи между «отцами и детьми» порваны, между ними нет преемственности и нет взаимного уважения. В этом разрыве не отражается поступательный ход истории, как это было в известном романе Тургенева. В пьесе молодого Чехова рознь поколений исторически бесплодна, это один из симптомов разрушительной болезни, поразившей общество конца века. Эта болезнь выражается в почти всеобщем эгоизме, во взаимной нелюбви, в неуважении к человеку, в неумении и нежелании понять и пожалеть его. Все это свойственно и такому яркому и своеобразному человеку, как генеральша, которая ради удовлетворения своих прихотей и страстей, не задумываясь, причиняет жестокие страдания людям, оказывающимся на ее пути. Даже мелодраматический герой Осип, обрисованный чертами романтического отщепенца, человек, ненавидящий трусость и рабство, даже он не свободен от жестокого презрения ко всем, кто слабее его. При всей безотрадности общей картины пьеса, однако, не создает впечатления полной безнадежности жизни и неустранимости зла. В финале пьесы, где страсти и беды достигают высшего предела, намечается перелом: люди извлекают уроки из своих и чужих несчастий, начинают постигать трудное искусство любви к людям, каются в своих грехах, собираются «хоронить мертвых и починять живых».
Ранняя пьеса Чехова чрезвычайно растянута, в ней сказывается техническая неумелость молодого драматурга, и в то же время в ней есть черты подлинного новаторства, в ней видно стремление обновить современную драму. В пьесе воссоздается неспешное течение жизни, и сюжетные ситуации вплетаются в картины будничного быта, с приездами и отъездами, обедами и чаепитиями, с бесконечными разговорами, иногда проясняющими характер говорящего и бытовую ситуацию, а часто и вовсе ненужными с точки зрения традиционной театральности, подчеркнуто домашними, комнатными. Здесь Чехов сближался с традицией разговорной пьесы Островского и Тургенева с той, однако, существенной разницей, что у Островского речь была средством характеристики социальной среды или психологического склада личности, будь то тяжелое слово самодура, или бойкий говорок свахи, или лирическая, песенная речь людей горячего сердца; у Тургенева обыденная речь всегда была на грани тончайших словесных поединков и незаметно переходила в них; у Чехова она была сама по себе, становилась самостоятельной сценической стихией. К этому потоку бытовых подробностей, мелочей, пустой болтовни, всяческих пустяков текущей повседневности присоединился сильный элемент мелодрамы, сосредоточившейся вокруг фигуры благородного разбойника, смело вдвинутой в круг вполне прозаических персонажей. И над всем этим, вбирая в себя этот разнородный материал, развертывался социологический этюд в лицах, событиях, исповедях, монологах — своеобразный драматизированный критико-публицистический очерк на тему «Что такое платоновщина?»
«Иванов» — это прямое продолжение «Платонова». Это пьеса о болезнях лишних людей современности, о недуге целого поколения, о легкой возбудимости и быстрой утомляемости, о разочарованности и безверии, о дурном гамлетизме, прикрывающем безделье и безволие. «...Утомился, не верю, в бездельи провожу дин и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги», «Откуда во мне эта слабость, что стало с моими нервами?», «Мое нытье... эта моя психопатия, со всеми ее аксессуарами...» — так сулит Иванов о себе. Характерно для Чехова — врача и социолога, что симптомы заболевания социального, психологического и физического у него совпадают. Период возбуждения в жизни русского общества прошел, наступил период утомления - так в письмах разъяснял Чехов смысл вопросов, поднятых в «Иванове». Общество подвержено болезням так же, как человеческий организм,— подобная идея была распространена в ту пору, когда создавался «Иванов»; законы социальные рассматривались тогда в теснейшей связи с законами биологическими и психофизиологическими. В частности, тогда интересовались патологическим явлением паралича воли, то есть таким состоянием, когда человек знает, что ему следует делать, но у него нет воли желать, когда он видит и понимает свой долг, но не может его выполнить. Это понималось как болезнь поколения, загипнотизированного неподвижной, окаменевшей на десятки лет действительностью. Нечто подобное видим мы в «Иванове», примерно такой же диагноз ставит своему герою доктор Чехов, понимающий сложное душевное состояние Иванова, человека честного и доброго, повинного, однако, из-за своего безволия и бессилия, в прямой жестокости к окружающим его людям.-
Этой сложности положения человека, виноватого без вины, но все-таки несущего моральную ответственность за свою вину, пусть невольную, не может понять доктор Львов, и Чехов объясняет природу его ошибки. Доктор Львов самоуверен и прямолинеен в своих суждениях, что недопустимо для врача, он видит лицемерие и подлость человека там, где следовало бы увидеть недуг времени и поколения. Человека он понимает упрощенно, и Иванов прав, когда в ответ на обвинения Львова говорит ему: «Как просто и несложно... Человек такая простая и немудреная машина... Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам». Чехов так и судит о людях, как хотелось Иванову, не только о нем самом, но и о Львове, он видит в нем человека прямого и честного, безусловно, убежденного в своей правоте. Львов, как и Иванов, порожден обстоятельствами общественной жизни, появление его рядом с Ивановым естественно и неизбежно, это полюсы современности: где появляются Ивановы, там возникнут и Львовы, рядом с бесчестной слабостью становится бессовестная сила.
Чехов сказал в одном из писем, что оба его героя — «результат наблюдения и изучения жизни» (И III, 115— 116). Слово «изучение» очень характерно, Чехов именно изучает своих героев, он подходит к ним как исследователь, и задача его не в том, чтобы оправдать одного и осудить другого. В конце 40-х годов А. И. Герцен писал: «Поэт вовсе не судебный следователь, не королевский прокурор; он не обвиняет, он не обличает, особенно — в драме. ., .Надобно питать некоторое доверие к человеческой природе и к нашему уму»[9]. Чехов так и поступил, он проявил доверие к зрителям и читателям, они же хотели знать определенно и ясно, на чьей стороне симпатии автора. По законам традиционной театральности, если перед нами герои-антагонисты, один должен был быть поставлен выше другого. Чехов нарушил этот закон, и в этом был один из признаков его новаторства в «Иванове». Иванов у него не выше Львова, а только несчастнее его.
Сложность и необычность авторской позиции связана была со стремлением художника, занятого «наблюдением и изучением жизни», понять все многообразные «колеса, винты и клапаны», составляющие человека как индивидуальный организм и как существо общественное. Отсюда и тонкость в обрисовке душевных движении, не поддающихся однозначному истолкованию. Так, в последнем действии граф Шабельский внезапно плачет. Лебедев, сказавший ему несколько резких слов, думает, что Шабельский плачет от обиды. Оказывается, однако, что это не так просто: в действие пришли разные колеса и клапаны, и Шабельский плачет оттого, что вспомнил умершую Анну Петровну и сердечно пожалел ее, и оттого, что пожалел самого себя за одиночество и заброшенность, за то, что жизнь его прошла и у него больше пе осталось ни одной надежды, и еще, быть может, оттого, что ему хочется съездить в Париж, поглядеть на могилу своей жены. Причин много, и Шабельский выражает это словами «ничего, так. . .».
Искусство выражать душевное состояние почти без слов или первыми попавшимися словами развернется в последующей драматургии Чехова, начиная с «Чайки», в «Иванове» оно только намечается. Здесь преобладают прямые слова и рассуждения. Иванов подробно разъясняет, отчего он надорвался, анализирует себя самого как общественное явление, спорит с Львовым, спорит с Сашей. «Не свадьба, а парламент», — говорит он в финале драмы, и сама пьеса иной раз превращается в парламент мнений — о том, в чем вина и беда Иванова и что представляет собою он сам как частный человек и как общественное явление;
О болезнях современности Чехов говорит и в следующей своей пьесе, в «Лешем» (1889), но здесь эти болезни не персонифицированы в главном персонаже. Один из театральных рецензентов заметил: «По внутреннему содержанию своему «Иванов» много ниже «Лешего». Там — известный тип, тут целое общество, зараженное повальной болезнью». Главные признаки этой болезни герои пьесы видят во взаимной неприязни людей, в привычке подходить к каждому человеку «боком» и искать в нем чего угодно, только не человека. В людях видят либералов, консерваторов, народников, психопатов, чудаков — кого угодно, только не людей. Хрущов, прозванный Лешим, горячо говорит о том, что на человека надо глядеть «без программ». Он защищает от истребления леса и много рассуждает о них, но чуткая Елена Андреевна придает его разговорам о лесах более широкий смысл. Люди в ослеплении своем губят не только леса, но и человека, они посягают на красоту мира. «Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга». Даже даровитый и честный Хрущов, ясно видящий хронические пороки людей, сам не свободен от общей болезни, он, как и другие, охотнее верит злу, чем добру, а в этом — источник всех бед. Спасение же — во взаимной любви, доверии и чуткости. «Леший» — единственная пьеса Чехова, где автор встает на путь учительства и прямо проводит свою этическую тенденцию, далеко, впрочем, не новую: мораль чеховской пьесы очень близка учению Льва Толстого. В «Лешем» Чехов заплатил дань толстовской проповеди, которая, по его словам, «трогала» его в течение нескольких лет, самую щедрую дань. В финале пьесы, после самоубийства Войницкого, все герои осознают свою вину, каются в ней, прощают друг друга, легко и весело отказываются от прежних заблуждений и воскресают к новой жизни и к счастью. Пьеса, подобно водевилю, заканчивается безмятежной идиллией с двумя свадьбами; неожиданно возникают и сюжетные элементы мелодрамы; похищение красавицы, ее побег, тайное пребывание на заброшенной мельнице и, под занавес, внезапное ее появление перед удивленными героями — и зрителями. Смелое соединение разнородных элементов было не чуждо Чехову-драматургу, но открытый дидактизм пьесы, наивно-утопическое разрешение сложных жизненных коллизии— все это было не в духе его творчества. Чехов был глубоко не удовлетворен своей пьесой и в дальнейшем пошел по совсем другому пути.
«Чайка», в отличие от «Лешего», — это пьеса вопросов, а не ответов. В ней все сложно, запутаны отношения между людьми, любовные коллизии остаются неразрешенными, человеческие характеры противоречивы. Аркадина эгоистична, мелочна, легкомысленна, скупа, но в то же время бывает добра и великодушна, ее отношения с сыном — это взаимная любовь, готовая ежеминутно перейти в ссору, а ссоры заканчиваются сердечным примирением и сами оказываются своеобразным проявлением любви. В своем отношении к искусству она одновременно и заурядный ремесленник, и талантливая актриса, влюбленная в свое дело, в свою артистическую профессию, понимающая значение профессионализма в искусстве. Тригорин придерживается традиционных форм в литературе, но его отношение к ней серьезно и строго, в его взглядах на задачи писателя много родственного Чехову, в его суждениях о процессе и психологии литературной работы есть нечто от Мопассана. Даже его антагонист Треплев признает его артистическое владение секретами и приемам!! литературной изобразительности. Все это не мешает ему в личной жизни быть человеком слабым, безвольным и в безвольности своей жестоким и неблагородным. Сам Треплев — человек с задатками новатора, но без той внутренней силы и дисциплины духа, которая нужна смелым реформаторам. В образе Нины Заречной женственность и поэтичность натуры странным образом соединяются с чертами «попрыгуньи», а готовность «нести свой крест» и вера в свое призвание — с жалобными стонами обессилевшей чайки.
Жизнь, показанная в пьесе, — груба, прозаична, скудна и в то же время поэтически приподнята над бытом. Первые же реплики, открывающие «Чайку», звучат не так, как это бывает в зачинах бытовых пьес:
«Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?
Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна».
Это поэтический лейтмотив образа Маши и лирическая увертюра ко всей пьесе. Символический смысл имеет образ чайки. У Островского символический характер носили названия «Гроза», «Лес», но это были простые аллегории и однозначные уподобления. У Чехова образ чайки связывается с судьбой Треплева (он сам предсказывает, что убьет себя, как убил чайку) и с судьбой Нины, и с Тригориным, который сперва увидел в убитой чайке сюжет для небольшого рассказа о девушке, загубленной, как чайка, а потом забыл весь этот эпизод, забыл чайку и Треплев, и только зритель должен был помнить ее от начала до конца пьесы — от афиши спектакля до самоубийства Треплева. Образ чайки превращался в широкий символ чего-то бессмысленно загубленного и бездушно забытого,-—символ, относящийся не к определенной человеческой судьбе, а ко всей жизни, развертывающейся в пьесе. Символический смысл имеет и образ озера, ставшего своеобразным действующим лицом в пьесе Треплева и в пьесе Чехова. «Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро!» — восклицает Дорн в конце первого действия, намекая на одно из значений этого образа.
Символический характер приобретает и театральная эстрада, выстроенная для представления пьесы Треплева. На нем читался монолог о мировой душе, возле нее звучали слова любви и произносились декларации о новых формах в искусстве. Так было в начале пьесы, в конце любовь Треплева и Нины приходит к краху, мечты о создании новых форм остаются неосуществленными, жизнь Треплева движется к трагическому финалу. Все это предваряется в начале последнего действия репликой Медведенко: «В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал». Плакала в нем, как выяснится далее, Нина Заречная, некогда полная радостных ожиданий, а старый театр, свидетель несбывшихся надежд ее и Треплева, пойдет из слом. Символ здесь приближается к аллегории, и печальный смысл его ясен: комедия окончена.
Чехов в своем стремлении обновить сценическое искусство поступает иначе: он сохраняет бытовой театр, но пронизывает бытовые эпизоды элементами иной, небытовой стилистики: то появляются символические образы, то в лирических местах пьесы речь персонажей начинает звучать как стихотворение в прозе, то самые, казалось бы, нейтральные реплики вдруг приобретают особые, небытовые интонации. Когда Аркадина говорит: «Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров?», то это напоминает стиль высокой трагедии, у Чехова же такие пассажи возникают на будничном фоне, стилистически возвышая бытовое действие.
Иногда это делается едва заметно. Так, Нина в последнем диалоге с Треплевым говорит: «Лошади мои стоят у калитки» и потом опять: «Лошади мои близко»; реально это значит, что ее не нужно провожать, не более того, но в звучании этих слов, на общем фоне взволнованного и тревожного диалога появляется особый, поэтический колорит и смысл. Да и вообще последний разговор Нины и Треплева далек от бытового реализма. Их волнение и тревога передаются не отрывистыми фразами и восклицаниями, как полагалось бы по законам жизненного правдоподобия, а строго упорядоченными синтаксическими конструкциями. Треплев говорит: «Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки». Повторение одинаковых грамматических форм создает особый ритмический рисунок. И далее: «Я одинок., не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно-». Тот же принцип сценической речи в монологах Нины: «Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом»; «Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства — чувства, похожие на нежные, изящные цветы...» Четыре однотипных определения к слову «жизнь», сравнение чувств с цветами, к тому же «нежными», «изящными», — это лексика и синтаксис декламационной прозы, это речь не устная, не разговорная, а подчеркнуто книжная, сугубо литературная. Это не передача чувств в их непосредственном, непроизвольном словесном выражении, а скорее рассказ о них, выдержанный в стиле лирической прозы.
Литературность «Чайки» сказывается не только в речи действующих лиц, но и в соотнесенности пьесы с литературными темами и мотивами широко известных произведений. Шекспировская, точнее, гамлетовская тема в «Чайке» неоднократно отмечалась в критической литературе. В самом деле, в «Чайке» есть сын, упрекающий мать за ее любовь к новому мужу и ненавидящий его. Аркадина читает слова королевы: «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, таких смертельных язвах — нет спасенья!» Треплев подхватывает тему и отвечает ей словами Гамлета: «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?» Этот полушутливый обмен репликами из «Гамлета» — явный намек на реальную ситуацию. Вслед за этим разыгрывается спектакль в спектакле, который, как и в «Гамлете», внезапно прерывается.
Есть в «Чайке» тургеневские мотивы. Как в «Месяце в деревне», здесь читают на сцене книгу французского автора (у Тургенева это был Дюма, здесь — Мопассан), играют в лото (у Тургенева это были карты), и возгласы играющих вклиниваются в застольный разговор. В обеих пьесах этот прием имитирует реальное течение жизни.
Есть и более глубокие, смысловые связи с Тургеневым. Нина Заречная в последнем монологе говорит о жизненных целях, о том, что главное для нее теперь не слава, не прежние мечты, а уменье терпеть. Это по духу и стилю близко к известным словам из тургеневского «Фауста» о том, что не исполнение любимых мыслей и мечтаний», а исполнение долга есть главная задача человека, «.. .Не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща». Цепям, железным цепям долга соответствует в «Чайке» другой символ отреченья — крест. «Умей нести свой крест и веруй»,— как бы вторит Нина Заречная герою повести Тургенева «Фауст», которому также идея отреченья во имя долга досталась тяжелой ценой. Печальными тургеневскими мотивами пронизан весь последний акт «Чайки». В авторской ремарке к нему читаем: «Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах»; это сразу напоминает «Рудина», рудинскую тему судьбы. В конце действия Нина Заречная развертывает ее: «Слышите — ветер? У Тургенева есть место: „Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол"». И потом вновь цитирует тургеневский роман о бесприютном скитальце, имея в виду себя, свою судьбу: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам...»
Не менее важную роль играют в «Чайке» и темы Островского, поддерживающие ту же тональность, те же настроения бесприютности, отказа от прежних надежд, горестной неустроенности жизни. Опять-таки давно было отмечено, что само название пьесы Чехова связано с Островским: героиню «Бесприданницы» зовут Ларисой, а это греческое имя значит «чайка», она живет на берегу реки и погибает, как подстреленная чайка. Еще более глубокие связи можно обнаружить между «Чайкой» и «Грозой». В пьесе Чехова есть прямые переклички с драмой Островского. Нина в прощальном разговоре с Треплевым говорит: «Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне все каждую ночь снится, что вы смотрите на меня и не узнаете». Катерина в «Грозе», тоже в состоянии душевного смятения, говорит Борису очень близкие слова: «. . .Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...» Далее она пытается вспомнить что-то важное, но это ей не удается: «Да нет, все не то я говорю; не то я хотела сказать!» Потом опять: «Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать! Вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голове-то все путается, не вспомню ничего». И наконец она доходит до истины: «Да, так. .. Я вспомнила». О чем же? До этого она думала, что жить больше нельзя, «не надо... нехорошо». Она «вспомнила», значит, о своем решении уйти из жизни. Сознание вытесняло эту страшную мысль, но она всплыла в памяти и сделала свое дело.
У Чехова речь Нины разработана в том же психологическом и стилистическом ключе. «Я— чайка. Нет, не то. (Трет себе лоб.)». И дальше: «Меня надо убить. (Склоняется к столу.) Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! (Поднимает голову.) Я — чайка. Не то. Я — актриса». Ответ, значит, как будто найден: не чайка, но актриса, не гибель, но крест и долг. Однако потом тревога вспыхивает с новой силой: «Я чайка. Нет, не то. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то. .. (Трет себе лоб.) О чем я? ..» И дальше о сцене, об уменье терпеть, о вере, о неизбывной любви к Тригорину, еще более сильной, чем прежде, вновь всплывает поэтому на поверхность сознания тригоринская фраза «сюжет для небольшого рассказа», потом воспоминания о прежней радостной и чистой жизни, о пьесе Треплева, слова о мертвом мире, обо всех жизнях на земле, которые, «свершив печальный круг, угасли», и поспешное бегство — от Треплева, от своего прошлого, от себя самой.
Сходство с Островским слишком очевидно, чтобы оно могло быть случайным. Совпадают все элементы сцены последнего прощания в обеих пьесах: и боязнь героини, что человек, любивший ее, теперь ее ненавидит, и душевное смятение, и путаница мыслей, и стремление вспомнить что-то, найти единственно важное слово, и общий рефрен «не то, не то».
Сцена последнего прощания у Островского написана ажурнее и проще, чем у Чехова. У Островского героиня говорит: «Умереть бы теперь!» — у Чехова: «Меня надо убить». Катерина, встретившись с Борисом, подбегает к нему и плачет у него на груди, а потом после молчания ведет себя с удивительной внешней сдержанностью. Нина Заречная рыдает, трет себе лоб, в волнении пьет воду, говорит сквозь слезы. Катерина, сказав Борису короткое «прощай!», «провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись», Нина читает длинный монолог из пьесы Треплева, потом «порывисто обнимает» его и убегает. Со времени «Грозы» прошло тридцать пять лет, утекло много воды, жизнь стала более сложной и нервной, запутались жизненные судьбы и человеческие отношения. Нина любит двоих, что было бы невозможно в мире Островского. Прежняя ясность чувств и стремлений исчезла. Прежде было попятно, кто притеснитель и кто жертва, кто друг и кто враг, кто счастлив и кто несчастен, теперь стали несчастны все, и никто в отдельности в этом не повинен, разве только дьявол с багровыми глазами, о котором говорил доктор Королев в «Случае из практики», а еще раньше Треплев в пьесе о Мировой Душе. В драме Островского Борис остался жить, Катерина покончила самоубийством, в печальной комедии Чехова ушел из жизни Треплев, Нина осталась, чтобы нести крест, не боясь жизни, и веровать в свое призвание, чтобы было «не так больно». Для этого нужно много сил и мужества, а она «так утомилась», а жизнь так тяжела. «Груба жизнь!» Справится ли она с нею, — мы не знаем.
Событийная сторона пьесы необычна: судьбы героев в ней не досказаны. Так, причина самоубийства Треплева не поддается однозначному истолкованию. Что толкнуло его на этот шаг? Неудачная любовь, разочарование в своих творческих силах, ложность его пути в искусстве? Прямых ответов пьеса не дает. Характерно также, что самоубийство Треплева хотя и заканчивает пьесу, но не подводит под ней последнюю черту, так как «Чайка» — не пьеса о Треплеве, в отличие, например, от «Иванова», где заглавный герой играл централизующую роль. Судьба других героев «Чайки» не завершена. Что ожидает Нину Заречную, как сложится жизнь Маши, — об этом можно только догадываться. «Чайка» построена в соответствии с общим чеховским принципом изображения жизни как процесса, не разложимого на замкнутые, законченные эпизоды. С. Д. Балухатый отметил, что драматизм переживаний и ситуаций в «Чайке» «создается по принципу неразрешения в ходе пьесы завязанных в ней взаимных отношений лиц»[10]. Эту особенность «Чайки» увидели и некоторые проницательные современники. Так, А. Ф. Кони сказал в письме к Чехову, что его «Чайка» «прерывается внезапно, оставляя зрителя самого дорисовывать себе будущее». «Так кончаются, — писал он, — или, лучше сказать, так обрываются эпические произведения»[11].
В то время, когда была создана «Чайка», в России была уже известна новая европейская драматургия, связанная с именами Ибсена, Гауптмана, Метерлинка. С их пьесами в театр проникли веяния символизма, а отчасти и натурализма. Ибсен от романтического театра шел к сложному сплаву бытового реализма и символики. Интерес к неумолимым законам наследственности, как фатум вторгающимся в жизнь людей, сближал Ибсена с тематикой, характерной для натурализма. Гауптман, писатель следующего за Ибсеном поколения, начал с натурализма и потом перешел к символистским пьесам. Метерлинк был символист природный и последовательный, глубокий теоретик символистской драмы и один из самых тонких ее мастеров. Вместе с «Чайкой» драматургия Чехова вступила в соседство с новой европейской драматургией. Началом этой новой драматургии Метерлинк считал «Власть тьмы» Толстого и «Привидения» Ибсена. Во «Власти тьмы» он видел соединение ужасов современной жизни с высокой духовностью, воплощенной в образе Акима. В «Привидениях» Ибсена Метерлинк усматривал зловещее торжество рока, выступающего в форме наследственности. «Власть тьмы» названа здесь не случайно. С этой пьесой связывал начало своего драматургического творчества и Гауптман. «Своими литературными корнями я ухожу в творчество Толстого, — писал он,— Моя драма «Перед восходом солнца» оплодотворена его «Властью тьмы» с ее своеобразной смелой трагедийностью»[12]. Однако в действительности подчеркнутый и резкий натурализм Гауптмана в изображении деревенской жизни сильно отличается от сурового реализма народной драмы Толстого, а тема наследственности, столь важная для немецкого драматурга, не находит во «Власти тьмы» никаких соответствий. Чехову также совершенно чужда эта тема и в ибсеновской и в гауптмановской се трактовке. Болезни современного человека и современного общества он изображал, как мы видели, совсем в иной плоскости. Если говорить о тематической близости, то Чехову была гораздо важнее и интереснее тема одиночества людей, их разобщенности в семье и обществе, как она была поставлена в пьесе Гауптмана «Одинокие» (1891), высоко оцененной Чеховым.
Мало общего у Чехова и с Ибсеном, этим подлинным и великим реформатором театра. В своем беспощадном анализе современного общества Ибсен добирается до самых глубин, он срывает маски показного благополучия и производит суровый пересмотр господствующей морали, осуждая не только своекорыстие, косность, но л душевно дряблую добродетель, не способную к борьбе с препятствиями. Ибсен показывает сложные жизненные ситуации, при которых борьба представляется человеку невозможной и все же оказывается необходимой. Ом призывает к общественной активности, мужеству и бескомпромиссности. Символические образы Ибсена укрупняют бытовые коллизии его семейных драм, придают сценам повседневной, домашней жизни особую значительность и монументальность.
Так, в «Привидениях» символично самое это заглавие, оно обозначает призраки старого, тяготеющие над современностью, прежде всего зловещие призраки старой, отжившей морали, общественной и религиозной. Строится приют памяти покойного камергера Альвинга, причинившего много зла своей семье, пожар истребляет здание, но на пепелище старого приюта возникнет новое убежище того же имени; фактически это будет уже публичный дом 'для моряков. Одно лицемерие сменяется другим, еще более чудовищным. Призраки горят и не сгорают. Сын камергера Освальд погибает от сухотки спинного мозга (наследие беспутного отца!). «Мама, дай мне солнце!» — восклицает он, перед тем как погрузиться в тьму бессознательного существования. Все время лил дождь, людям нужно солнце, когда же оно проглядывает, то для Освальда это уже бесполезно: его ждет темная ночь распавшегося сознания. Он просит солнца, но получит в лучшем случае вечную тьму, в худшем — мерзость разложения заживо. Такие твердые, можно сказать, железные символы скрепляют действие большинства пьес Ибсена 80—90-х годов. Все мысли доведены в них до предельной ясности, все объяснено прямыми словами. Символы сцементированы логикой. Ничего зыбкого, расплывчатого, смутного, неясного. Мощная воля автора безраздельно господствует в пьесе.
Чехову не могла импонировать драматургическая система Ибсена с ее глубокой и сильной, но деспотически однозначной символикой. О «Дикой утке» Ибсена он сказал: «Так в жизни не бывает». И в самом деле, у Чехова события не развертываются столь дидактично и символы не бывают так обнажены, они просвечивают сквозь гущу обыденности, философия не лежит на поверхности так открыто. Единственную слабую дань ибсенизму у Чехова можно, пожалуй, усмотреть в символе чайки, хотя и не столь однозначном, как у Ибсена, но все-таки несколько логизированном, несущем в себе оттенок аллегории. В дальнейшем ничего близкого Ибсену в пьесах Чехова найти невозможно. Можно даже сказать, что драматургическая поэтика Чехова противоположна ибсеновской. В самом деле, у Ибсена не может быть никакой «тарарабумбии», или жары в Африке, или Бальзака с его женитьбой в Бердичеве, а если бы в пьесе Ибсена был упомянут звук лопнувшей струны, то это имело бы вполне ясный и определенный смысл.
Метерлинком, как известно, Чехов был очень заинтересован. В 1897 году он читал в подлиннике «Слепых», «Непрошеную гостью» («Втершуюся»), «Аглавену и Селизетту». «Все это странные, чудные штуки, — писал он —но впечатление громадное, и если бы у меня был театр, то я непременно бы поставил «Слепых»» (П VII, 26). В драматургических идеях Метерлинка были родственные Чехову черты. Он был сторонник сценической разработки не трагедии больших событий, а трагедии каждодневной, обычной, глубокой и всеобщей. Эти мысли открывали путь к реализму, но пьесы Метерлинка в большинстве своем были выдержаны в символистском духе. Действующие лица его пьес — это люди наедине с судьбой, с роком, с неизбежным, со смертью. Они только слегка индивидуализированы, обозначены одной-двумя чертами. Короли, принцессы, монахини в его пьесах — это персонажи, далекие от людей «каждого дня». Даже если действие происходит в обычной среде, псе равно перед нами не бытовые персонажи, а люди вообще, часто без имен, обозначенные в афише «отец», «дядя», «первый слепой» и т. п. Их речь отрывиста, наивна, чрезвычайно лаконична, часто они с вопросительной интонацией повторяют реплики собеседников, иногда ограничиваются восклицаниями-междометиями. За сценой— главные силы и могущества, перед которыми люди беспомощны, хотя и не всегда пассивны.
Большую роль в пьесах Метерлинка играет невидимое, едва слышимое, предчувствуемое, предугадываемое. В пьесе «Слепые» группа слепцов находится на берегу моря. Священник, их поводырь, умер и мертвый сидит среди них, но они этого не знают. Слышно, как прибегает собака священника и не отходит от покойника. Слышны какие-то новые шаги. Что они значат — спасение или гибель,— неизвестно. Скорее последнее, потому что дитя на руках слепой матери плачет все громче и отчаяннее. Здесь возможны аллегорические толкования, вроде того, например, что слепые символизируют все человечество, а мертвый священник — закат религии и т. п., но возможно восприятие этой пьесы как драмы настроений, без прямой подстановки понятий, и это ближе к общему духу поэтики Метерлинка. В «Непрошеной гостье», также заинтересовавшей Чехова, обыкновенные люди сидят за столом и обмениваются репликами, в которых звучит тревога и мрачное предчувствие. Тяжело больна молодая женщина, недавно разрешившаяся от бремени. В дом втирается смерть. Люди чувствуют ее приближение. В саду падают мертвые листья. Пугаются лебеди. Три сестры испуганно жмутся друг к другу и обмениваются поцелуями. Входит сиделка и молча возвещает о смерти больной. Все бросаются в ее комнату. На сцене остается слепой старик, он больше всех чуял приближение смерти. Теперь, когда беда совершилась, его забыли, он остался один.
Метерлинк создал драматургию удивительной тонкости и эмоциональной выразительности. В его пьесах значимо все — и шелест листьев, и шорох шагов, и шепот тихих слов, и безмолвные объятия. Иногда у него появляются люди сильных страстей, совершаются кровавые дела, звучат человеческие стоны, возникает шекспировская атмосфера, но и в этих случаях все приглушено, перегружено в дымку ирреальности, точно действуют и говорят не люди, а тени людей. В стиле Метерлинка много условной поэтичности: замки, принцы, принцессы, лебеди… Тонкость чувств, изящество движений, речей, поз — все это у Метерлинка находится на опасной грани перехода в свою противоположность: тонкость иной раз граничит с нарочитостью, изящество с манерностью. Поэзия рока, мотивы неведомого и таинственного звучат у Метерлинка почти везде, даже в его естественно-научном сочинении «Жизнь пчел» (1901). В. Г. Короленко, вполне сочувственно отнесшийся к этой книге, заметил однако: «Эти постоянные повторения на разные лады: «тайна, тайна, о тайна, великая тайна», — звенят, как тренканье на одной струне, и надоедают». В другом письме, уверяя своего корреспондента, что «Пчелы» Метерлинка ему понравились и вызвали большой интерес, он добавляет: «Но — все-таки и теперь у меня остается впечатление, что Мет[ерлипк] кокетничает с «неведомым» и с «тайнами бытия». И это дает осадок»[13]. Короленко был непримиримым противником символизма, и его суждения, быть может, грешат прямолинейностью, но основания для таких оценок в стиле Метерлинка имелись.
Чехов был совершенно свободен от того, что Короленко назвал кокетничаньем с неведомым. Изящество чувств и мыслей героев его пьес проявлялось на фоне вполне обыденной, часто грубой и пошлой жизни. Даже подчеркнутый лиризм в диалогах Треплева и Нины Заречной не был единственной стилистической краской в их речи. Тот же Треплев произносил и вполне прозаические тирады, нервничал, брюзжал и даже бранился. Задача Чехова-драматурга заключалась не в том, чтобы отвергнуть прозу жизни, отвернувшись от нее или превратив ее в нечто таинственное и мистически-прекрасное, а в том, чтобы показать, как в нашей бедной и скудной жизни, неподвижной и застывшей, у самых обыкновенных людей возникает томление духа и появляются смутные надежды на возможность иного существования. В особенности сильно эти черты сказываются после «Чайки».
Тема «Дяди Вани» и «Трех сестер» — трагедия неизменности. Перемены в жизни людей происходят, но общий характер жизни не меняется. М. Горький писал Чехову, что, слушая «Дядю Ваню», он думал «о жизни, принесенной в жертву идолу». Не только жизнь Войницкого ушла на служение идолу, но также и Астрова, и Елены Андреевны, и Сони. Какие бы облики ни принимал этот «идол» — профессора ли Серебрякова, или чего-то безличного, вроде уездной глуши, засосавшей доктора Астрова, — все равно: за ним стоит та бесцветная нищенская жизнь, та «ошибка» и «логическая несообразность», о которой думал герой «Случая из практики», уподобивший эту универсальную несообразность дьяволу. Люди делают свои дела, лечат больных, подсчитывают фунты постного масла, влюбляются, переживают страдания ревности, печаль неразделенной любви, крах надежд, а жизнь течет в тех же берегах. Иногда разгораются ссоры, звучат револьверные выстрелы, в «Дяде Ване» они никого но убивают, в «Трех сестрах» от пули армейского бретера погибает человек, достойный счастья, но и это — не события, а только случаи, ничего не меняющие в общем ходе жизни, которой почти все глубоко неудовлетворены, каждый по-своему.
Ничего трагически страшного с людьми не произошло, но они все пребывают в тоске, иные — в бессильной злобе, иные — в ленивой скуке. Общий порядок жизни коснулся каждого своею грубою рукой и сделал их хуже, чем они могли бы быть. Люди опошляются, как Астров, озлобляются, как Войницкий, прозябают в праздности, как Елена Андреевна, становятся несправедливыми друг к другу. Астров неравнодушен к Елене Андреевне, но в его отношении к ней сказывается грубость чувства, он не верит ей, считает хищницей, подозревает в лукавстве. Елена Андреевна, способная почувствовать, что «мир погибает», томится от безделья и думает, что люди трудятся только в идейных романах. Войницкий говорит верные н сильные речи против такого уклада жизни, при котором люди с готовностью и даже благоговением подчиняются Серебряковым, но сам он слаб, поглощен собой, своими обидами и несчастьями и потому нередко бывает назойлив и бестактен. Соня призывает всех к милосердию, и она же говорит больному отцу. «Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет»; «Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится (это стрела в сторону Елены Андреевны.— Г Б.), по меня избавь, сделай милость! Я этого не люблю. И мне некогда, мне нужно завтра рано вставать, у меня сенокос». И так проходит жизнь.
Однако одно из важных отличий «Дяди Вани» и «Трех сестер» от «Чайки» заключается в том, что неизменность жизни порождает у героев этих пьес не только тягостную скуку и печаль, но и предчувствие, а иногда даже уверенность, что жизнь непременно должна измениться. И даже более того: чем неизменнее кажется жизнь, тем ярче становятся предчувствия правды и счастья. Астров заботится о сохранении лесов. Это — его «чудачество», но это и лучшая часть его личности. Речь идет не только о практической пользе, но и о красоте земли, о сотворчестве человека с природой, об иной жизни на иной земле, где «люди красивы, гибки... речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства...». Об этом мечтает и Елена Андреевна, когда скорбит о том, что во всех людях сидит «бес разрушения» и скоро «на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою».
Особенно много говорят, думают и спорят о будущем в «Трех сестрах». Вершинин откладывает достижение желанного берега на долгие годы, призывая отказаться от стремлений к личному благу во имя будущего всеобщего счастья. Тузенбах убежден, что и в будущем жизнь «останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая», поэтому нашу нынешнюю жизнь надо прожить возможно лучше и достойнее. Характерно, что именно он говорит о близости бури. Ирина мечтает об осмысленном труде, приносящем человеку удовлетворение и радость. Маша видит счастье жизни в уразумении ее общего смысла; люди должны знать, «для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе». В одной из промежуточных редакций в финальном монологе она говорит, глядя на небо: «Над нами перелетные птицы, летят они каждую весну и осень, уже тысячи лет и не знают, зачем, но летят и будут лететь еще долго, долго, тысяч лет, пока, наконец, бог не откроет им тайны».
Вообще тема птиц превращается в «Трех сестрах» в некий лейтмотив. В самом начале пьесы, в первом действии, наполненном ощущением радостных надежд, Ирина признается, что чувствует себя счастливой, что она точно на парусах, что над ней широкое голубое небо и большие белые птицы. Чебутыкин, обращаясь к Ирине, произносит с нежностью: «Птица моя белая...» Потом образы всех трех сестер начинают сплетаться с образами птиц, сами же сестры, при всей их неповторимости, начинают восприниматься как единый образ. «Сестры», «три сестры» — это, в атмосфере пьесы, обозначение не физического родства, а духовной общности. Маша, отважившись на «покаяние», взывает к сестрам: «Милые мои, сестры мои!» — и в этом призыве слышится безграничное доверие и чувство единения. Андрей в одну из редких минут полной откровенности восклицает: «Милые мои сестры, дорогие мои сестры!», обращаясь ко всем трем разом, как к одному человеку. И когда потом Маша почти с теми же словами обращается к перелетным птицам и, глядя вверх, говорит им: «Милые мои, счастливые мои...», то в этот момент птицы для нее тоже как бы сестры, только счастливые и свободные, в отличие от реальных ее сестер и от нее самой, привязанных к земле, несчастливых и несвободных неизвестно почему.
В этих поэтических сближениях, возгласах, словах, в рассуждениях героев и героинь чеховских пьес звучит тоска по общему смыслу, по «общей идее». Люди хотят знать, зачем они живут, зачем страдают. Они хотят, чтобы жизнь предстала перед ними не как стихийная необходимость, а как осмысленный процесс. Каждый думает об этом по-своему, но все думают примерно о том же. Когда в «Дяде Ване» Соня мечтает увидеть «жизнь светлую, прекрасную, изящную» в загробном существовании, она все-таки думает о нашей, земной жизни, какой она должна была бы быть. Представление об иной жизни можно перенести в мир сказки, как в «Снегурочке» Островского, можно идею «гармонии прекрасной» выразить в мистерии о победе мировой души над дьявольскими силами, можно выразить ее в формах религиозной образности и символики, но в любом случае речь пойдет о неудовлетворенности жизнью, от которой все устали, и о стремлении к жизни, достойной человека. .
Это общее стремление не всегда выражается прямыми словами, чаще всего это бывает в финалах чеховских пьес, когда действие уже кончилось. Тогда звучат проникновенные лирические монологи, обычная сдержанность оставляет людей и они говорят так, как не говорили на протяжении всей пьесы и как люди вообще не говорят в жизни. В самом деле, кто в действительной жизни, а не на сцене станет говорить об ангелах и небе в алмазах или о том времени, когда «наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка»? Это уже чистая театральная условность, подчеркнутое отступление от бытового правдоподобия. В обычном же течении пьесы, когда на сцене развертывается реальная жизнь, герои и героини чеховских пьес так говорить не умеют, — они погружены в себя. Чувствуется, что для них настала пора великого размышления. Прежних объединяющих слов нет, ждать их не от кого, и каждый решает главные вопросы жизни сам. Это сказывается в том, как люди в пьесах Чехова говорят друг с другом. Диалоги в пьесах Чехова, по определению Л. Р. Кугеля, приобрели «монологическую форму». «Похоже на то, что при данной конъюнктуре никто никому ничем помочь не может, и потому речи действующих — только словесно выраженные размышления. Разговора в истинном значении этого слова, когда один убеждает другого или сговаривается с другим, или когда единая мысль, направленная к единой цели или к единому действию, воссоздается частями в ансамбле участников — такого разговора очень мало. Наивысшей формы отчужденности и невстречающегося параллелизма это достигает в беседе земского человека Андрея («Три сестры») с глухим сторожем Ферапонтом»[14].
Вряд ли, впрочем, беседу между Андреем и Ферапонтом можно назвать выражением наивысшей формы отчужденности. Это только наиболее наглядная форма. Высшая же форма возникает в тех случаях, когда отчужденность не подчеркнута, когда среди собеседников глухих нет, но именно поэтому прямо обратиться к ним с глубоко затаенным и единственно важным невозможно, и люди говорят совсем не о том, что у них сейчас на душе. Вспомним сцену отъезда Астрова в последнем действии «Дяди Вани». Астров прощается с Еленой Андреевной и расстается с надеждой на счастье, прощается с усадьбой, к которой привык, потом после паузы, подводящей черту под тем, что можно было выразить ясными словами, он вдруг говорит о том, что пристяжная захромала (это для того, чтобы будничными заботами заглушить душевную тревогу), потом уже совсем неожиданно и некстати произносит ставшую знаменитой фразу о жаре в Африке (это чтобы не заговорить о главном), потом выпивает рюмку водки (чтобы залить тоску) и уезжает, увозя от близких людей свои невысказанные чувства. О них герои Чехова говорят редко, отчасти потому, что эти чувства плохо поддаются переводу на язык слов, отчасти потому, что не вполне ясны самим говорящим, отчасти из-за их целомудренной сдержанности. Создастся впечатление, что между людьми распались связи и погасло взаимопонимание. Однако это далеко не так. Напротив, герои чеховских пьес понимают друг друга даже когда молчат или не слушают своих собеседников, или говорят о жаре в Африке и о том, что Бальзак венчался в Бердичеве. Между ними (если это, конечно, не Серебряковы и не Наташи) установилось сердечное единение.
Этот особый характер театральной речи, когда люди говорят как бы не в унисон и отвечают не столько на реплики собеседников, сколько на внутренний ход собственных мыслей и все-таки понимают друг друга, именуется обычно «подводным течением». Его нельзя смешивать с таким диалогом или полилогом, в котором слово говорящего что-то утаивает или намекает на нечто, понятное не всем участникам разговора, а только некоторым, как бывает, например, в пьесах Тургенева «Месяц в деревне» или «Где тонко, там и рвется». У Чехова нет ни утаивания, ни намеков. В его пьесах все говорят о своем и для себя, но в «подводном течении» разрозненные струн сливаются, потому что все охвачены той же неудовлетворенностью и теми же предчувствиями.
«Вишневый сад» по своему строению близок к «Трем сестрам». Композиционно-психологическая схема обеих пьес совпадает. В «Трех сестрах» в первом действии — радостный подъем, мечты о счастье, тема птиц, мотивы бури, ожидание осмысленного труда, объяснение в любви. Во втором действии наступает отрезвление: неоправдавшиеся надежды, разочарование в любви у Андрея, в труде — у Ирины («труд без поэзии, без мысли»), прерванное веселье, остановленный вальс, музыки не будет, ряженых не будет, счастья не будет. В третьем действии — пожар, волнение, взрывы тоски и отчаяния у Ирины, у Маши, у Чебутыкина, у Андрея. Это действие можно было бы озаглавить словом «Тревога». В последнем действии господствует тема прощания: «Прощайте, деревья! Прощай, эхо!», улетают птицы, уходит навеки барон, покидают город военные.
В «Вишневом саде», в первом действии, как и в «Трех сестрах», — надежды на спасенье, нежные встречи, лирические воспоминания, слова любви («Солнышко мое, весна моя!»). Во втором действии — отрезвление, нервозность, рассказ Раневской об увлечении недостойным человеком, слова Лопахина: «Напоминаю вам, господа: 22-го августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..» Следующее действие, как и в «Трех сестрах», можно назвать «Тревога». Ее пытаются заглушить танцами, весельем, но все в смятении, все ждут решения судьбы. Это решение приходит во всей своей неумолимости, и в глубине души все знали его наперед, как в «Трех сестрах» Ирина интуитивно знала, что ее жених будет убит. В последнем акте, опять-таки как в «Трех сестрах», — расставание с прошлым, отъезд, прощание.
И, однако, при всем сходстве в построении обеих пьес, в «Вишневом саде» все иное. Предчувствия и ожидания людей здесь уже накануне осуществления. В последней пьесе Чехова чувствуется близость обновления, оно не только в мечтах и смутных предчувствиях людей, но в ходе самой жизни. В «Вишневом саде» показана историческая смена социальных укладов: кончается период вишневых садов, с элегической красотой уходящего усадебного быта, с поэзией воспоминаний о былой жизни, навеки уже отшумевшей. Владельцы вишневого сада нерешительны, не приспособлены к жизни, непрактичны и пассивны, у них тот же паралич воли, который Чехов видел и у некоторых прежних своих героев, но теперь эти личные черты наполняются историческим смыслом: люди терпят крах, потому что ушло их время.
Люди подчиняются велению истории больше, чем личным чувствам. Раневскую сменяет Лопахин, но она ни в чем не винит его, он же испытывает к ней искреннюю и сердечную привязанность. «Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную», — говорит он. Петя Трофимов, возвещающий наступление поной жизни, произносящий страстные тирады против старой несправедливости, также нежно любит Раневскую и в ночь ее приезда приветствует ее с трогательной и робкой деликатностью: «Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду». Но и эта атмосфера всеобщего расположения ничего изменить не может: законы истории неумолимы. Покидая свою усадьбу навсегда, Раневская и Гаев на минуту случайно остаются одни. «Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали». Здесь чувствуется дыхание трагизма и ощущается суровость происходящей смены, но неизбежность ее ощущается тем сильнее.
Современники говорили о жестокости третьего действия пьесы, понимая, что это жестокость не автора, а самой жизни. В пьесе Чехова, говоря словами старого поэта, «век шествует путем своим железным». Наступает период Лопахина, вишневый сад трещит под его топором, хотя как личность Лопахин тоньше и человечнее, чем роль, навязанная ему историей. Лопахин не может не радоваться тому, что он стал хозяином усадьбы, где его отец был крепостным, и эта его радость естественна и понятна. В победе Лопахина чувствуется даже некая историческая справедливость. И вместе с тем Ло-пахин понимает, что его торжество не принесет решительных перемен, что общий колорит жизни останется прежним. Он сам мечтает о конце той «нескладной, несчастливой жизни», в которой он и ему подобные будут главной силой. Потом его сменят новые люди, это будет следующий шаг истории, о котором с радостью говорит Трофимов. Он не воплощает будущего, но чувствует его приближение. Каким бы облезлым барином и недотепой Трофимов ни был, он человек нелегкой судьбы; по словам Чехова, он «то и дело в ссылке», на это есть намеки и в тексте пьесы. Душа его «полна неизъяснимых предчувствий», он восклицает: «Вся Россия — наш сад», и радостные слова и возгласы Трофимова и Ани дают тон всей пьесе.
До полного счастья еще далеко, еще предстоит пережить лопахинскую эру, рубят прекрасный сад, в заколоченном доме забыли Фирса. Правда, красота и человечность еще не торжествуют в этом мире, жизненные трагедии еще далеко не изжиты, но ощущения трагической неизменности жизни в последней пьесе Чехова уже нет. Общая картина мира изменилась. Русская жизнь, казалось бы застывшая на века в своей фантастической искаженности, пришла в движение. Мечтательно-тоскливое ожидание перемен, походившее ранее на веру в невозможное, сменилось радостным убеждением в близости будущего. Люди уже слышат его шаги.
От веселого смеха над несообразностями жизни в ранний период деятельности, от горестного удивления перед вопиющими несообразностями и алогизмами жизненного уклада в средний период — к ощущению необходимости и возможности «перевернуть жизнь в последние годы XIX века и в первые годы XX столетия — такова последовательность и логика творческого развития Чехова, отразившие движение русской истории от периода реакции 80-х годов к эпохе первой русской революции. Чернышевский говорил, что произведения искусства часто «имеют значение приговора о явлениях жизни». Произведения Чехова имели именно такое значение, и вся современная ему жизнь прошла перед его судом. В вынесении приговора явлениям жизни участвуют разные «стороны»: есть прокуроры и обличители, есть адвокаты, есть судьи. Чехов претендовал на роль свидетеля и на протяжении всей своей писательской деятельности выполнял ее. Как свидетель он был безукоризненно правдив, он приводил точные подробности событий и чувств, достоверные факты, иногда крупные, иногда мелкие, иногда вовсе незначительные, но в каждом из них в отдельности и во всех вместе отражалось подлинное лицо жизни. Он рассказывал о том, как люди объясняют жизненные явления, он говорил и о своем личном отношении к ним, никогда не скрывал своих оценок, но не навязывал их, оставаясь верен раз навсегда избранной позиции. Для эпохи конца века, когда жизнь потребовала пересмотра старых теорий и догматических ответов, эта позиция Чехова, эта его строгая и объективная, иногда до наивности простая манера рассказывать о том, что он увидел и понял, имела громадное значение. Она убеждала в неопровержимой достоверности его слов. «...То, что он говорит, выходит у него потрясающе убедительно и просто, до ужаса просто и ясно, неопровержимо и верно»,— писал о Чехове в 1900 году М. Горький.[15]
[1] Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Письма в 12-ти т. М.,1976, т. 3,с. 39. В дальнейшем ссылки на письма Чехова даются в тексте по этому изданию.
[2] КороленкоВ.Г. В Крыму (1907).- Собр.соч. в 10-ти т. М.,1954, т. 4, с.200-201.
[3] Горький М.А. А.П.Чехов. С.Соч. в 30-ти т. М.,1950, т. 5,с. 428
[4] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Мелочи жизни (1886).— Полн. собр. соч. М., 1937, т. 16, с. 419,
[5] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 23, с. 316,
[6] О соединении в рассказах этого цикла тургеневской традиции с традицией разночинно-демократической литературы 60—70-х годов см.: Бердников Г. А. П. Чехов. Идейные и творческие искания. Изд. 2-е, Л., 1970, с. 58—66.
[7] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1953, т. 23, с. 316.
[8] Многочисленные примеры подобной индивидуализации приведены в книге А. П. Чудакова «Поэтика Чехова» (М., 1971).
[9] Г е р ц е н А. И. Собр. соч, в 30-ти т. М., 1955, т. 6, с. 245.
[10] Балухатый С. Чехов-драматург. Л., 1936, с. 135—136
[11] 2 Чехов Л. П. Поли. собр. соч. под редакцией А. В. Луначарского II С. Д. Балухатого. М.—Л., 1932, т. 9, с. 349
[12] Гауптман Г. Пьесы. М., 1959, т. 1, с. 558.
[13] Короленко В.Г. Избранные письма. М., 1936. т. 3, , 153.
[14] Кугель А. Р. Русские драматурги. М., 1934, с. 126—127.
[15] Горький М. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». — Собр. соч. в 30-ти т. М., 1953, т. 23, с. 316.
{/spoilers}